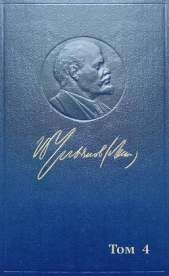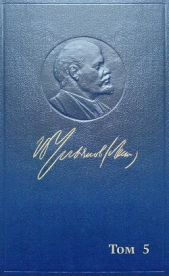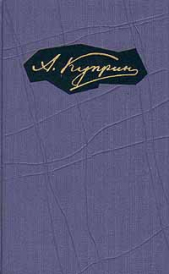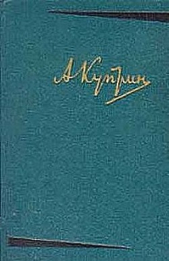Том 3. Произведения 1901-1905
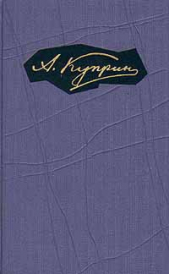
Том 3. Произведения 1901-1905 читать книгу онлайн
В третий том вошли произведения 1901–1905 гг.: «Сентиментальный роман», «Серебряный волк», «По заказу», «Поход», «Болото», «Трус», "В цирке", "На покое", "Конокрады", "Белый пудель", "Мирное житие", "Корь", «В казарме», «Жидовка», «Брильянты», «Пустые дачи», "С улицы", «Хорошее общество», «Жрец», «Сны», "Черный туман".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я живу в деревне недолго, Егор Иваныч, — говорит он, стараясь сделать свой голос проникновенным, — и убедительно прижимает руку к груди. — И я согласен, я абсолютно согласен с вами в том, что я не знаю деревни. Но во всем, что я до сих пор видел, так много трогательного, и глубокого, и прекрасного… Ну да, вы, конечно, возразите, что я молод, что я увлекаюсь… Я и с этим готов согласиться, но, жестоковыйный практик, поглядите на народную жизнь с философской точки зрения…
Землемер презрительно пожал одним плечом, усмехнулся криво и язвительно, но продолжал молчать.
— Посмотрите, дорогой Егор Иваныч, какая страшная историческая древность во всем укладе деревенской жизни. Соха, борона, изба, телега — кто их выдумал? Никто. Весь народ скопом. Две тысячи лет тому назад эти предметы были точка в точку в таком же виде, как и теперь. Совсем так же люди тогда и сеяли, и пахали, и строились. Две тысячи лет тому назад!.. Но когда же, в какие чертовски отдаленные времена сложился этот циклопический обиход? Мы об этом не смеем даже думать, милый Егор Иваныч. Здесь мы с вами проваливаемся в бездонную пропасть веков. Мы ровно ничего не знаем. Как и когда додумался народ до своей первобытной телеги? Сколько сотен, может быть тысяч, лет ушло на эту творческую работу? Черт его знает! — вдруг крикнул во весь голос студент и торопливо передвинул фуражку с затылка на самые глаза. — Я не знаю, и никто ничего не знает… И так — все, чего только ни коснись: одежда, утварь, лапти, лопаты, прялка, решето!.. Ведь поколения за поколениями миллионы людей последовательно ломали голову над их изобретением. У народа своя медицина, своя поэзия, своя житейская мудрость, свой великолепный язык, и при этом — заметьте — ни одного имени, ни одного автора! И хотя все это жалко и скудно в сравнении с броненосцами и телескопами, но — простите — меня какие-нибудь вилы удивляют и умиляют несравненно больше!..
— Ту-ру-ру, ти-лю-лю, — запел фальшиво Жмакин и завертел рукой, подражая шарманщику. — Завели машину. Удивляюсь, как это вам не надоест: каждый день одно и то же?
— Нет, Егор Иваныч, ради бога! — заторопился студент. — Вы только послушайте, только послушайте меня. Мужик, куда он у себя ни оглянется, на что ни посмотрит, везде кругом него старая-престарая, седая и мудрая истина. Все освещено дедовским опытом, все просто, ясно и практично. А главное — абсолютно никаких сомнений в целесообразности труда. Возьмите вы доктора, судью, литератора. Сколько спорного, условного, скользкого в их профессиях! Возьмите педагога, генерала, чиновника, священника…
— Попросил бы не касаться религии, — внушительным басом заметил Жмакин.
— Ах, не в этом дело, Егор Иваныч, — нетерпеливо и досадливо замахал рукой Сердюков. — Возьмите, наконец, прокурора, художника, музыканта. Я ничего не говорю, все это лица почтенные. Но каждому из них, наверное, хоть раз приходила в голову мысль: а ведь, черт побери, так ли уж нужен человечеству мой труд, как это кажется? У мужика же все удивительно стройно и ясно. Если ты весною посеял, то зимою ты сыт. Корми лошадь, и она тебя прокормит. Что может быть вернее и проще? И вот этого самого практического мудреца извлекают за шиворот из недр его удобопонятной жизни и тычут лицом к лицу с цивилизацией. «В силу статьи такой-то и на основании кассационного решения за номером таким-то, крестьянин Иван Сидоров, нарушивший интересы чересполосного владения, приговаривается», и так далее. Иван Сидоров на это весьма резонно отвечает: «Ваше благородие, да ведь еще наши деды-прадеды пахали по эту вербу, вот и пень от нее остался». Но тогда является на сцену землемер Егор Иваныч Жмакин.
— Прошу без намеков по моему адресу, — обидчиво прервал Жмакин.
— Является… ну, скажем, землемер Сердюков, если это вам больше нравится, и изрекает: «Линия AB, отграничивающая владения Ивана Сидорова, идет по румбу зюйд-ост, сорок градусов тридцать минут». Очевидно, что Иван Сидоров совместно с дедом и прадедом запахал чужую землю. И вот Иван Сидоров сидит в кутузке, сидит совершенно правильно, по всем статьям уложения о наказаниях, но все-таки он ровно ничего не понимает и хлопает глазами. Что значит для него ваш румб в сорок градусов, если он с молоком матери всосал убеждение, что чужой земли на свете не бывает, а что вся земля божья?..
— К чему вы все это выражаете? — угрюмо спросил Жмакин.
— Или вот еще: гонят Ивана Сидорова на военную службу, — горячо продолжал Сердюков, не слушая землемера. — И вот дядька учит его: «Доверни приклад, втяни живот, делай — рраз! Подавайся всем корпусом уперед…» Да позвольте же, господа! Я сам прослужил отечеству два месяца и охотно верю, что для военной службы эти кунштюки [27]необходимы. Но ведь это же для мужика чистая абракадабра, колокольня в уксусе, сапоги всмятку! Как хотите, но не может же взрослый человек, оторванный от простой, серьезной и понятной жизни, поверить вам на слово, что эти фокусы действительно необходимы и имеют разумное основание. И, конечно, он глядит на вас, как баран на новые ворота.
— Не довольно ли на сегодняшний раз, Николай Николаевич? — сказал землемер. — Мне, по правде говоря, надоела уже эта антимония. Что-то вы такое из себя хотите изобразить, но толку у вас ничего не выходит. Какого-то донжуана из себя строите! И к чему весь этот разговор, не понимаю я.
Огибавший куст студент рысцой догнал мрачно шагавшего землемера.
— Вот вы сегодня утром говорили, что мужик глуп, что мужик ленив, мужика надо драть, мужик раздурачился. Говорили вы это с ненавистью и потому, конечно, были несправедливее, чем хотели бы. Но поймите же, дорогой Егор Иваныч, что у нас с мужиком разные измерения: он с трудом постигает третье, а мы уже начинаем предчувствовать четвертое. Сказать, что мужик глуп! Послушайте, как он говорит о погоде, о лошади, о сенокосе. Чудесно: просто, метко, выразительно, каждое слово взвешено и прилажено… Но послушайте вы того же мужика, когда он рассказывает о том, как он был в городе, как заходил в театр и как по-благородному провел время в трактире с машиной… Какие хамские выражения, какие дурацкие, исковерканные слова, что за подлый, лакейский язык. Господа, нельзя же так! — воскликнул студент, обращаясь в пространство и разводя руками с таким видом, как будто весь лес был наполнен слушателями. — Ну да, я знаю, мужик беден, невежественен, грязен… Но дайте же ему вздохнуть. У него от вечной натуги грыжа, — историческая, социальная грыжа. Накормите его, вылечите, выучите грамоте, а не пришибайте его вашим четвертым измерением. Потому что я твердо уверен, что, пока вы не просветите народа, все ваши кассационные решения, румбы, нотариусы и сервитута будут для него мертвыми словами четвертого измерения!..
Жмакин вдруг резко остановился и повернулся к студенту.
— Николай Николаевич! Да прошу же я вас наконец! — воскликнул он плачущим, бабьим голосом. — Так вы много разговариваете, что терпение мое лопнуло. Не могу я больше, не желаю!.. Кажется, интеллигентный человек, а не понимаете такой простой вещи. Ну, говорили бы дома или с товарищем своим. А какой же я вам товарищ, спрашивается? Вы сами по себе, я сам по себе, и… и не желаю я этих разговоров. Имею полное право…
Николай Николаевич боком, поверх стекол пенсне, поглядел на Жмакина. У землемера было необыкновенное лицо: спереди узкое, длинное и острое до карикатурности, но широкое и плоское, если глядеть на него сбоку, — лицо без фаса, а с одним только профилем и с унылым висячим носом. И в мягком, отчетливом сумраке позднего вечера студент увидел на этом лице такое скучное, тяжелое и сердитое отвращение к жизни, что у него сердце заныло мучительной жалостью. Сразу с какой-то проникновенною, больною ясностью он вдруг понял и почувствовал в самом себе всю ту мелочность, ограниченность и бесцельное недоброжелательство, которые наполняли скудную и одинокую душу этого неудачника.
— Да вы не сердитесь, Егор Иваныч, — сказал он примирительно и смущенно. — Я не хотел вас обидеть. Какой вы раздражительный!