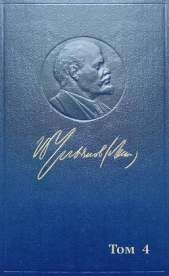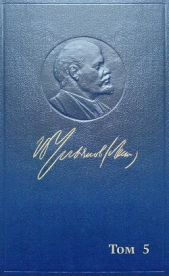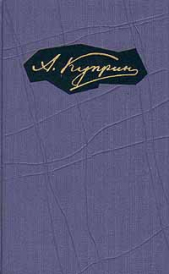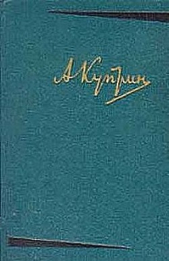Том 3. Произведения 1901-1905
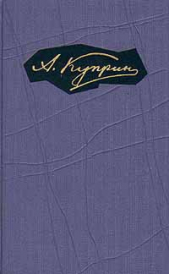
Том 3. Произведения 1901-1905 читать книгу онлайн
В третий том вошли произведения 1901–1905 гг.: «Сентиментальный роман», «Серебряный волк», «По заказу», «Поход», «Болото», «Трус», "В цирке", "На покое", "Конокрады", "Белый пудель", "Мирное житие", "Корь", «В казарме», «Жидовка», «Брильянты», «Пустые дачи», "С улицы", «Хорошее общество», «Жрец», «Сны», "Черный туман".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Тихон, душа моя!.. Добрый, старый, верный Тихон! Понимаешь ты Славянова-Райского? Жалеешь? Дай я поцелую твою честную седую голову.
— Господи, да как же нам не понимать! — расчувствовался, в свою очередь, Тихон. Он утерся рукавом и с готовностью подставил губы Славянову. Потом, с кряхтеньем установив лампадку и слезая с табурета, он сказал, добродушно и укоризненно покачивая головой: — А нет того чтобы отставному севастопольцу пожертвовать на построение полдиковинки. Сами кушаете водочку, а свою верную слугу забываете.
— Тихон! Радость моя! Голуба! Все я растранжирил, старый крокодил… Впрочем, постой… Там у меня, кажется, еще что-то осталось. — Он пошарил в кармане и вытащил оттуда вместе с грязной ватой, обломками спичек, крошками табаку и другим сором несколько медных монет. — На, получай, старый воин. И знай, Тихон, — вдруг с пафосом воскликнул Славянов, ударив себя в грудь кулаком, — знай, что тебя одного дарит своей дружбой жалкая развалина того, что раньше называлось великим артистом Славяновым-Райским!
И он расплакался обильными, пьяными, истерическими слезами. Оплакивал он свою погибшую шумную жизнь, и свою сиротливую старость, и то, что его никто не понимает, и то, что его давеча так оскорбительно вывели из ресторана. Его сожители давно уже лежали под одеялами, а он все говорил и говорил, изредка обращаясь к своему соседу Стаканычу, который отвечал сонным, невнятным мычанием. И в этом неясном бреде безобразно сплетались экипажи, фраки, губернаторы, серебряные сервизы, отрывки ролей и грязная ругань. И когда он, наконец, заснул, то все еще продолжал бормотать в тяжелом, полном призраков, пьяном сне.
К часу ночи на дворе поднялся упорный осенний ветер с мелким дождем. Липа под окном раскачивалась широко и шумно, а горевший на улице фонарь бросал сквозь ее ветви слабый, причудливый свет, который узорчатыми пятнами ходил взад и вперед по потолку. Лампадка перед образом теплилась розовым, кротко мерцающим сиянием, и каждый раз, когда длинный язычок огня с легким треском вспыхивал сильнее, то из угла вырисовывалось в золоченой ризе темное лицо спасителя и его благословляющая рука.
Все актеры, кроме Славянова, бредившего во сне, проснулись среди ночи и лежали молча, со страхом и тоскою в душе. Лидин-Байдаров, у которого от прежних привычек осталась только жадная любовь к сладкому, ел принесенную им днем ватрушку с вареньем и старался делать это как можно тише, чтобы не услыхали соседи. Михаленко, покрывшись с головой одеялом, пугливо прислушивался к глухому и тревожному биению своего сердца. Каждый раз, когда ветер, напирая на стекла и потрясая ими, бросал в них с яростной силой брызги дождя, Михаленко глубже прятался головой в подушку и наивно, как это делают в темноте боязливые дети, закрещивал мелкими быстрыми крестами все щелочки между своим телом и одеялом. Стаканыч слез с кровати и стоял на коленях. В темноте слышались его глубокие вздохи, однообразный, непрерывный и торопливый шепот и глухой стук его лба о пол. Напротив его, все так же прямо и неподвижно вытянувшись, лежал дедушка. Глаза его медленно переходили с черного окна на нежно-розовый мерцающий свет лампадки и на тени, качавшиеся по потолку. Лицо у него было важное, спокойное и задумчивое.
Позднее других проснулся Славянов-Райский. Он был в тяжелом, грузном похмелье, с оцепеневшими руками и ногами, с отвратительным вкусом во рту. Сознание возвращалось к нему очень медленно, и каждое движение причиняло боль в голове и тошноту. Ему с трудом удалось вспомнить, где он был днем, как напился пьяным и как попал из ресторана в убежище.
Он вспомнил также, что у него в кармане пальто лежит полбутылки водки, которую он всегда, даже в самом пьяном состоянии, запасал себе на утро. Это у него была своеобразная, приобретенная долгим пьяным опытом и обратившаяся в инстинкт привычка старого алкоголика. Он встал и прошел босиком к шкапу, где висело верхнее платье. Через минуту оттуда послышалось, как задребезжало в его дрожащих руках, стуча о зубы, горлышко бутылки, как забулькала в ней жидкость и как сам Славянов закряхтел и зафыркал губами от отвращения.
— Райский, душечка, одолжи и мне, — молящим шепотом попросил Михаленко, — такая тоска… такая тоска…
Славянов поднял бутылку и нерешительно посмотрел сквозь нее на свет лампадки. Ему было жаль водки, но он никогда не умел отказать, если его о чем-нибудь просили.
— Эх, ну уж ладно, давай стакан, — сказал он, сморщившись.
В темноте опять заплескала жидкость и зазвенело стекло о стакан.
— Ну, вот спасибо, братик, спасибо, — говорил Михаленко. — Ффа-а-а, ожгло!.. Славный ты товарищ, Меркурий Иваныч…
— Ну ладно уж… чего уж там… Давеча я наговорил тебе неприятностей, так ты уж того… не очень сердись.
— Вот глупости. Чай, мы с тобой не чужие. Свой брат, Исакий. Ты мне, я тебе, без этого не обойдешься.
— Верно, верно, милый… именно не обойдешься, — со вздохом зашептал Славянов, усаживаясь на кровати Михаленки. — Трудно без этого. Живем мы кучей, тесно и все друг о друга тремся. Видал ты, в некоторых домах ставят такие стеклянные мухоловки с пивом? Наберется туда мух видимо-невидимо, и все они в собственном соку киснут да киснут, пока не подохнут. Так и мы, брат Саша, в своей мухоловке закисли и обозлились… А кроме того, и я особо сердит на этого идиота, Байдарова. Ну, скажи на милость, какой он нам товарищ? Какой он артист? Все равно что из грязи пуля. Другое дело, взять хоть бы нас с тобой, Сашуха… все-таки мы как-никак, а послужили театру.
— Что уж вы, Меркурий Иваныч, равняете меня с собой. Вы, можно сказать, — кит сцены, а я так… пескаришка маленький…
— Оставь, Саша. Оставь это, братец мой. У тебя тоже талантище был: теплота, юмор, свежести сколько. У теперешних механиков этого нет. Другой шерсти люди. Нутра им вовсе не дадено от природы. А ты нутром играл.
— Где уж нам, Меркурий Иваныч! Наше дело маленькое. За вас вот обидно.
— Нет, нет, ты не греши, Саша, ты этого не говори. Я ведь тебя хорошо помню в «Женитьбе Белугина». Весь театр ты тогда морил со смеху. Я стою за кулисами и злюсь: сейчас мой выход, сильное место, а ты публику в лоск уложил хохотом. «Эка, думаю, переигрывает, прохвост! Весь мой выход обгадил». А сам, понимаешь, не могу от смеха удержаться, трясусь, прыскаю — и шабаш. Вот ты как играл, Сашец! У нынешних этого не сыщешь. Шалишь!.. Но не везло тебе, Михаленко, судьбы не было.
— Что ж, Меркурий Иваныч, — согласился польщенный Михаленко, — это верно, что и меня публика хорошо принимала. Только голосу у меня нет настоящего, вот что скверно. Астма эта проклятая.
— Вот, вот, вот… я это самое и говорю. Астма или там, скажем, судьба — это все равно. Мне вот повезло, и я покатил в гору, а ты хоть и талантлив, и знаешь сцену, как никто, а тебе не поперло. Но это и не суть важно. Главное, что упали-то мы с тобой все равно в одно место, в одну и ту же отравленную мухоловку, и тут нам пришел и сундук и крышка.
— Не пили бы, так и не падали бы, Меркурий Иваныч, — с горькой насмешкой вставил Михаленко.
— Молчи, молчи, Саша, — испуганно и умоляюще зашептал Славянов, — не смейся над этим… Разве легко падать-то? Погляди на меня. Я ли не был вознесен, а теперь что? Живу на иждивении купчишки, хожу по трактирам, норовлю выпить на чужой счет, кривляюсь… Бывает ведь и мне стыдно, Саша… ох, как стыдно!.. Ведь мне, Саша, голубушка ты моя, шестьдесят пять лет в декабре стукнет. Шестьдесят пя-ать… Цифра!.. В детстве, я помню, начну, бывало, считать свои года и все радуюсь, какой я большой, сколько времени на один счет уходит. А ну-ка, посчитай теперь-то! — неудержимо зарыдал вдруг Славянов. — Дедушка ведь я, маститый старец, патриарх, а где мои внуки, где мои дети? Черт!
Темнота ночи все сильнее взвинчивала нервы Славянова, разбитые тяжелым похмельем. Он бил себя в грудь кулаками, плакал, сморкался в рубашку и, качаясь, точно от зубной боли, взад и вперед на кровати Михаленки, говорил всхлипывающим, тоскливым шепотом: