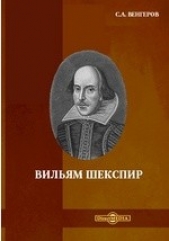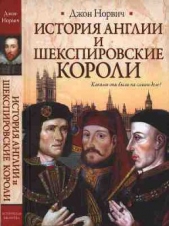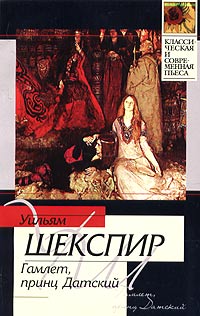Наш современник Вильям Шекспир

Наш современник Вильям Шекспир читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пьеса была настолько популярна, что в первые годы ее существования она исполнялась матросами на палубе корабля, стоявшего у берегов Африки; капитан, занесший этот случай в судовой журнал, упомянул: спектакль должен отвлечь людей от безделья и распущенности. Трудно вообразить себе это представление, но можно предполагать, что буйный экипаж "Дракона" вряд ли заинтересовали бы переживания героя сомнений и раздумья.
Почти ничего не известно об игре первого исполнителя роли - Ричарда Бербеджа (1567-1619). В элегии, посвященной его памяти, можно прочитать, что он играл "молодого Гамлета" и был похож на человека, не то "обезумевшего от любви", не то "печально влюбленного". Эстафета перешла к Тейлору, потом к Беттертону (1635- 1710). Ричард Стиль, видевший Беттертона, отметил, что тот играл "многообещающего, живого и предприимчивого молодого человека".
Конечно, это общие определения, но каждое из них менее всего может быть отнесено ко всему тому, что называется теперь гамлетизмом.
Игра знаменитого английского трагика Давида Гаррика (1717-1779) описана многими свидетелями. Филдинг в "Томе Джонсе" потешался над простодушным зрителем, считавшим, что актер, играющий короля, играл лучше Гаррика: говорил отчетливее и громче, и "сразу видно, что актер". Гаррик - Гамлет пугался духа так же, как испугался бы всякий, и гневался на королеву совершенно естественно, и в этом не было ничего удивительного: "Каждый порядочный человек, имея дело с такой матерью, поступил бы точно так же".
Вряд ли филдинговский обыватель мог бы воспринять Гамлета как человека совершенно обычного и даже разочаровывающего зрителей естественностью своего поведения, если бы мистер Партридж увидел на сцене трагедию раздвоения личности.
Зрителей середины восемнадцатого века интересовала не пьеса, а лишь исполнитель главной роли. Актер играл собственный вариант: он переделывал пьесу - сокращал, дописывал текст.
Джордж Стоун определил гарриковскую переработку как чрезвычайно динамическую и "эффектную".
Динамичность и эффектность достигались сокращением размышлений героя.
Большинство исполнителей купюровали монолог, произносимый Гамлетом после прохода войска Фортинбраса. Томас Шеридан впервые восстановил это место; однако актера интересовали вовсе не мысли о воле и безволии. В монологе заключалась возможность злободневных ассоциаций: шла война в Канаде; слова о том, что не жалко во имя славы пролить кровь даже за крохотный клочок земли, вызвали патриотическую овацию.
Можно ли представить себе трактовку, более чуждую гамлетизму?
В конце восемнадцатого века Н. М. Карамзин видел один из лондонских спектаклей. "В первый раз я видел шекспировского "Гамлета"... - писал он. Угадайте, какая сцена живее всех действовала на публику? Та, где копают могилу для Офелии..."
Отзыв не был вызван плохим исполнением: Карамзин присутствовал на летнем спектакле в Геймаркетском театре, где в это время играли лучшие актеры Дрюри-Лейна и Ковент-Гардена.
Ни в мемуарах, ни в переписке людей того времени не найти следов интереса к сложности переживаний героя. Даже такие места, как "быть или не быть", воспринимались по-особому. Современники переложили монолог на музыку и, превратив его в романс, исполняли под гитару.
Вольтер, переделывая пьесу, заменил в этом монологе "совесть" "религией", тогда вместо сомнений в смысле жизни появилась ясная мысль: трусами делает нас религия, "румянец решимости" вянет из-за христианского вероучения.
Во второй половине века искажающие переводы появились на различных языках. Стихи превращали в прозу; принц оставался в живых, Лаэрта в финале короновали. Переделки не только не выявляли трагедию рефлексии, но, напротив, превращали пьесу в историю мстителя.
Французских академиков и критиков волновало нарушение классических единств, смесь трагического с комическим. Шекспира бранили за низкий слог, отсутствие благопристойности. Обвинения в варварстве сменялись восхвалением естественности.
Возникало множество новых вопросов, но образ Гамлета - вне интересующих тем. Характер героя не вызывал особых толкований, а поступки его - в пределах принимаемого или отрицаемого искусства Шекспира - не казались нуждающимися в объяснениях.
В восемнадцатом веке "Гамлета" ставили немецкие и французские театры. Успех был настолько велик, что в честь гамбургской премьеры 1776 года вычеканили медаль с портретом Брокмана - Гамлета.
На сцене появился сентиментально-элегический принц.
Ни слова, относящегося к гамлетизму, в его современном понимании, еще не было произнесено.
Принято считать, что новую жизнь "Гамлету" дал Гете. Впрочем, есть исследователи, утверждающие: решающее слово сказал в своих лекциях Август Шлегель; другие обращаются к письмам Фридриха Шлегеля и там находят это новое, впервые произнесенное слово.
Слово было сказано, потому что пришло время его сказать.
Девятнадцатый' век открыл в пьесе не только заключенную в ней силу искусства, но и глубину мышления. Отныне это произведение перешло в иной раздел явлений культуры. Датский принц перестал быть одним из действующих лиц шекспировских трагедий, а стал героем, обладающим особым значением, образом, единственным в своем роде.
В чем же заключалась эта только теперь открытая особенность?
Немецкие мыслители обратили внимание не на события, изображенные в пьесе, а на характер героя; центр действия как бы перенесся из Эльсинорского замка в душу Гамлета. Здесь, в маленьком пространстве человеческой души, разыгрывалась драма, обладавшая особым значением.
Произведение родилось вновь. Оно стало иным; все привлекавшее внимание прежде теперь представлялось незначительным; другие стороны содержания вдруг оказались не только интересными, но, что наиболее существенно, жизненно важными.
Пьеса приобрела новый смысл, потому что новым, несхожим с прошлой эпохой было восприятие зрителя.
Кончилась эпоха, когда медвежья травля находилась в том же разряде развлечений, что и театр, когда по дороге на представление останавливались на площади посмотреть публичную казнь, воспринимавшуюся как род театрального зрелища. Исчезла буйная и пестрая толпа, окружавшая подмостки "Глобуса".
Люди другого склада, по-новому мыслящие и чувствующие. перечитали "Гамлета". Иным было восприятие этих людей - иным стал в их представлении образ героя.
Этот образ - такой, каким он показался новому времени, не смогли бы изобразить не только матросы "Дракона", но, вероятно, и сам Ричард Бербедж мало что понял бы в подобной роли.
Гете писал: "Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное существо, лишенное силы чувства, делающей героя, гибнет под бременем, которого он не мог ни снести, ни сбросить".
Сентиментально-элегический Гамлет второй половины восемнадцатого века получил новые и весьма существенные черты. Он зашатался под тяжестью бремени, упавшего на его плечи. В новом понимании суть пьесы заключалась в том, что Гамлет не мог ни отказаться от выполнения долга, ни его выполнить.
История датского принца превратилась в историю души прекрасной и благородной, но по своей природе неспособной к действию.
Понимание пьесы можно было найти не только в рассказе о ней, но и в способе ее сокращения.
Гете (словами Вильгельма Мейстера) говорил: трагедия состоит как бы из двух частей; первая - "это великая внутренняя связь лиц и событий", вторая "внешние отношения лиц, благодаря которым они передвигаются с места на место".
Внешние отношения он предлагал сократить, считая их маловажными. К "внешнему" была отнесена борьба Гамлета с Гильденстерном и Розенкранцем, ссылка в Англию, учение в университете. После гетевских изменений принц перестал быть студентом, чуждым придворной жизни, приехавшим в Эльсинор только на похороны отца и стремившимся обратно в Виттенберг; Горацио вместо университетского товарища Гамлета стал сыном наместника Норвегии.
Сцены, рассказывающие о смелости и решительности героя, объявлялись написанными лишь для "внешних отношений" и вымарывались. Из пьесы уходило все противоречащее гетевскому пониманию.