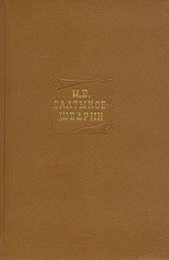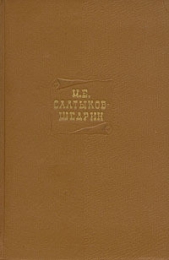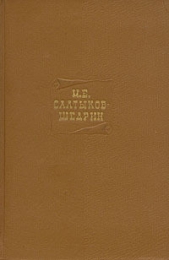Том 7. Произведения 1863-1871
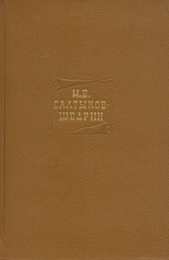
Том 7. Произведения 1863-1871 читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В настоящий том входят художественно-публицистические произведения Салтыкова, создававшиеся в основном в конце 60-х — самом начале 70-х годов: сборник «Признаки времени», цикл «Письма о провинции», незавершенные циклы «Для детей» и «Итоги», сатира «Похвала легкомыслию», набросок . Большинство этих произведений было напечатано или предназначалось для напечатания в журнале «Отечественные записки», перешедшем с 1868 г. под редакцию Некрасова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ожесточение благонамеренной прессы, а за нею и благонамеренной части общества доходит до того, что если мальчишка умирает, то никому не придет в голову сказать: вот погибает человек жертвою… ну, положим, хоть заблуждений! но всяк говорит: вот погибает мальчишка, то есть негодяй, то есть нигилист, то есть человек, не различавший своего от чужого! Откуда это проклятое «то есть»? Отчего если оно не всегда выражается, то всегда подразумевается? А просто оттого, что дело идет об «мальчишках» — и все тут!
Мальчишество — это преступление, за которое уличенный в нем лишается даже права апеллировать. Благонамеренный не станет и разговаривать с мальчишкой; «это мальчишка», — скажет он и самодовольно пройдет себе мимо…
Да, горько родиться «мальчишкой», но как же, с другой стороны, и не родиться-то им?
Всякий мужчина, как бы он росл ни был, имел свой период мальчишества, только не всякий это помнит. Иной думает, что он так-таки и вышел из головы Юпитера, как Минерва, во всеоружии; иной забыл, что он не далее как в 1861 году был еще мальчишкой; иной и не забыл, и даже не скрывает, что не забыл: «ну да, говорит, я был мальчишкой, покуда не коснулась меня благодать благонамеренности… что̀ ж из того? а если меня опять коснется благодать мальчишества, я опять буду мальчишкой… что̀ ж из того?» Таким образом, одни действуют по беспамятству, другие — потому, что дело это торговое и завсегда в наших руках состоит.
К последнему разряду деятелей я не обращаюсь; я знаю, что они еще не раз в своей жизни будут и мальчишками, и благонамеренными, смотря по тому, где больше поживишки. Это паразиты, которые обращают внимание исключительно на то, чье тело представляется более пухлым и лоснящимся, чтоб угнездиться именно там, где более обеспечено еды. Я обращаюсь к людям просто забывчивым и спрашиваю: неужели вы в самом деле забыли? неужели вы дошли до состояния опресноков без всяких тревог, без всякой борьбы? неужели вы не метались и не кипели? неужели вы сошли на путь благонамеренности так же случайно и безразлично, как заходят современные франты в тот или другой танцкласс? Нет, это невероятно. Это невероятно, потому что нет того человека, которого заплесневелая душа не умилилась бы перед воспоминанием о давнопрошедших, сладких днях молодости; нет того дряхлого, тупого старика, которого голова не затряслась бы сочувственно, которого морщины не осветились бы лучом радости, когда на него хоть на мгновенье, хоть случайно пахнет свежим ароматом навсегда утраченной весны жизни. Ибо, каково бы ни было содержание молодости (положим, что оно было беспутно, с вашей нынешней точки зрения), все же оно говорит о силе, говорит о надеждах, о жажде подвига, говорит о той книге жизни, которая когда-то читалась легко и которая туго и тупо дается осторожно-каплуньему пониманию старчества.
Да не подумает, однако ж, читатель, что я взываю о сожалении к мальчишкам, что я для того обращаюсь к памяти благонамеренных, чтобы сказать им: и вы были молоды, и вы заблуждались, так имейте же снисхождение к молодости и заблуждениям других! Нет, я просто становлюсь на историческую почву и говорю благонамеренным: вспомните то время, когда вы были мальчишками, и поищите в своей памяти, не было ли и тогда «благонамеренных»? Думаю, что этого вопроса достаточно, чтобы заставить их покраснеть.
Нет, я не прошу для мальчишек ни сожаления, ни даже снисхождения. Я нахожу, что мальчишество — сила, а сословие мальчишек — очень почтенное сословие. Самая остервенелость вражды против них свидетельствует, что к мальчишкам следует относиться серьезно и что слова «мальчишки!», «нигилисты!», которыми благонамеренные люди венчают все свои диспуты по поводу почтительно делаемых мальчишками представлений и домогательств, в сущности, изображают не что иное, как худо скрытую досаду, нечто вроде плача Адама об утраченном рае.
В чем же собственно дело? Где побудительная причина тех ожесточенных походов, которые поднимаются «благонамеренными» против «мальчишек»? Какие, наконец, права «мальчишек» на общее внимание?
Ответ на эти вопросы не так затруднителен, как это кажется с первого взгляда. Нельзя не сознаться, что общий уровень жизни изменяется; многое, с чем мы сжились, оказывается несостоятельным; чувствуется тяжесть какая-то; видится и сознается, что нет существа живого, которое могло бы сказать, что ему живется хорошо. Мы, благонамеренные, также это чувствуем, и в то же время не можем ничего выдумать к облегчению наших собственных болей!
И вот, в то самое время, когда мы вздыхаем и недоумеваем, где-то вдали, в каком-то непризнанном захолустье зарождается нечто новое; миазмы мало-помалу разрежаются, жизнь становится и приветнее, и светлее. Откуда этот успех?
Увы! Как ни мал успех, но источник его все-таки не столько в нас, благонамеренных, сколько в мальчишестве, в той освежающей силе, которую оно представляет. Из того, что практическое осуществление новых жизненных форм большею частью зависит от нас, благонамеренных, и производится нами, вовсе не следует, чтобы от нас же исходила и инициатива их…
. . . . . . . . . .
Итак, если мы видим, что жизнь сделала шаг вперед, если мы самих себя сознаем лучше и чище…
Мы клянем мальчишество, мы презираем его и в то же время, неслышно для нас самих, признаем его силу и подаем ему руку. Не будь мальчишества, не держи оно общество в постоянной тревоге новых запросов и требований, общество замерло бы и уподобилось бы заброшенному полю, которое может производить только репейник и куколь.
Я мог бы привести тысячи примеров из практики в доказательство справедливости моего положения, и если не делаю этого, то единственно из опасения, чтоб из того не вышло какой-нибудь нелитературной полемики. Дозволю себе один казенный вопрос: давно ли называлось мальчишеством, карбонарством, вольтерьянством все то добро, которое ныне в очию совершается? И нельзя ли отсюда прийти к заключению, что и то, что̀ ныне называется мальчишеством, нигилизмом и другими более или менее поносительными именами, будет когда-нибудь называться добром?
Русские «гулящие люди» за границей *
Сомневаюсь, чтоб сатирическое перо могло сыскать для себя сюжет более благодарный и более неистощимый, как «Русские за границей». Тут все дает пищу, и, с какими бы намерениями вы ни приступили к этому предмету, все будет хорошо. Не говоря уже о том энергическом, беспощадном остроумии, которым обладали великие юмористы, подобные Гоголю, — остроумии, относящемся к предмету во имя целого строя понятий и представлений, противоположных описываемым, даже такой незлобивый, невинный сатирик, каким был, например, Загоскин, — и тот находил возможность относиться к этому богатому сюжету если не глубоко, то, по крайней мере, искренно и весело. Говорят, будто Гоголь имел намерение изобразить впечатления русского воина старых времен, путешествующего за границей. Действительно, трудно себе представить что-нибудь соблазнительнее, грандиознее подобной темы! Тут было целое стройное миросозерцание, хотя не имевшее с внутренней стороны строго человеческого характера, но наружными своими признаками не дозволявшее сомневаться, что обладатель его принадлежит к человеческой семье; одним словом, тут было нечто такое, что носило на себе человеческий образ, но мысль имело не человеческую; тут воочию повторялся миф сирены, только наоборот, то есть брался человеческий хвост и приставлялась к нему рыбья голова. Задача величественная и для сатирического пера весьма лестная.
Я не бывал за границей, но легко могу вообразить себе положение россиянина, выползшего из своей скорлупы, чтобы себя показать и людей посмотреть. Все-то ему ново, всего-то он боится, потому что из всех форм европейской жизни он всецело воспринял только одну — искусство, не обдирая рта, есть артишоки и глотать устрицы, не проглатывая в то же время раковин. Всякий иностранец кажется ему высшим организмом, который может и мыслить, и выражать свою мысль; перед каждым он ежится и трусит, потому что кто ж его знает? а вдруг недоглядишь за собой и сделаешь невесть какое невежество! В России он ехал на перекладных и колотил по зубам ямщиков; за границей он пересел в вагон и не знает, как и перед кем излить свою благодарную душу. Он заигрывает с кондуктором и стремится поцеловать его в плечико (потому что ведь, известно, у нас нет средины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!); он заговаривает со своим vis-à-vis и все-то удивляется, все-то удивляется, все-то ахает! «Я россиянин, следовательно, я дурак, следовательно, от меня пахнет», — говорит вся его съежившаяся фигура.