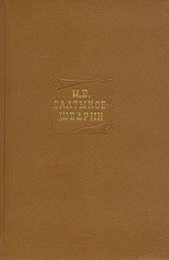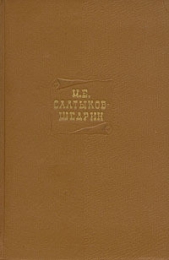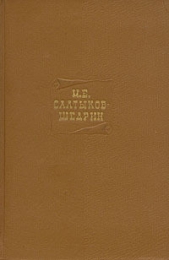Том 7. Произведения 1863-1871
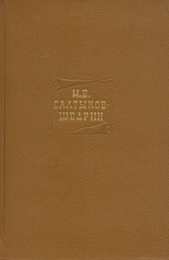
Том 7. Произведения 1863-1871 читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В настоящий том входят художественно-публицистические произведения Салтыкова, создававшиеся в основном в конце 60-х — самом начале 70-х годов: сборник «Признаки времени», цикл «Письма о провинции», незавершенные циклы «Для детей» и «Итоги», сатира «Похвала легкомыслию», набросок . Большинство этих произведений было напечатано или предназначалось для напечатания в журнале «Отечественные записки», перешедшем с 1868 г. под редакцию Некрасова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Первое естественное последствие такой шаткости отношений обнаруживается в том, что писатель, не имея в виду данных для определения, к кому именно обращается его слово, почти всегда действует наудачу. Может случиться, что слово это падет на почву добрую и возрастит плод добрый; но может случиться и так, что слово падет в навоз и возрастит крапиву. Тут, стало быть, уж не до прозелитизма, когда дело идет об отсутствии даже той простой понимающей среды, без которой деятельность писателя есть деятельность, вращающаяся в пустоте. А второе естественное последствие вот какое: когда писатель, случайно или не случайно, подпадает опале общества, когда его настигает невзгода, то тут уж не только нет речи о друзьях или недругах, но просто-напросто все обыватели безразлично сливаются в один хор и все едиными устами вопиют: ату его! крепче! крепче! вот так! И таким образом выходит, что человек сей, который наивно мнил, что защищает чьи-то интересы, отстаивает чье-то человеческое достоинство, нередко оказывается первее всего поруганным от своих естественных клиентов!
Результат нежеланный, но далеко не столь неожиданный, чтоб его нельзя было предвидеть заранее.
Торжество силы еще отнюдь не утратило, в глазах толпы, решительного своего влияния. В сущности, ей очень мало дела до внутреннего содержания торжества; ей нравятся его внешние декорации, ей нравится тот блеск и шум, которыми, по принятому обычаю, сопровождаются всякие потоптания, подавления и поругания. Труба трубит, штандарт скачет, а затем Гарибальди или Франциск въезжает в Неаполь — толпа одинаково зевает *, одинаково плещет руками. Но ежели уже в этих, так сказать, парадных случаях толпа безразлично относится к предметам своих восторгов (благо есть торжество), то понятно, каковы должны быть эти восторги при виде торжества всецелого, торжества без промаху, торжества, не испытывающего даже возражения! И что̀ нам Древний Рим с его * Сципионами, Цезарями, Катонами? Разве у нас мало найдется своих Цезарей, своих Катонов… вскормленных на лоне управы благочиния! *
Этих без пороху палящих Цезарей, этих Катонов, клянущихся гибелью новому Карфагену — литературе, развелось ныне даже более, нежели указывает потребность * самая прихотливая. Нет того ничтожнейшего гранителя мостовых, который бы не сверкал глазами, не чувствовал прилива негодования, которого уста не изрыгали бы хулу при одном упоминании о литературе. «Литература — это развратный дом; литература — это систематическая пропаганда анархии; литература — это организованное посягательство на жизнь и спокойствие общества!» — вот что̀ вещают новые Катоны-чревовещатели, и толпа, внимающая этим мудрым вещаниям, не только не задается вопросом: каким же образом, однако, мы живы? — но любит подобных глашатаев истины, благоговеет перед их безотпорным мужеством и нанимает охочего зяблика-гимнослагателя, который, за умеренную плату, готов петь и славу и срам своего отечества.
Толпа не только раболепна, но и труслива. Писатель, который, по самому свойству своей деятельности, может влиять на нее только нравственно, прежде, нежели всякий другой, убеждается в этой истине. Еще вчера он был чем-то вроде баловня фортуны, еще вчера около него теснился кружок людей, громко заявлявших о сочувствии, — и вот достаточно одной минуты, чтобы поставить его в то нормальное одиночество, из которого, при известных условиях жизни, ему не надлежало и выходить. Эту минуту — вы можете не только предугадать, но даже почти осязать. Она идет на вас в образе доносительно-прожорливой щуки, при виде которой, подобно брызгам, брызнут во все стороны резвящиеся вкупе пискари.
Местность, над которою разразился подобный щучий погром, делается на долгое время неспособною для произрастания иных злаков, кроме волчцов и крапивы. * Обыватели злопамятны; они из поколения в поколение передают рассказы о мученической смерти, постигшей окуней, и остерегают птенцов своих от общения с литературой. Мыслебоязнь становится лозунгом не только настоящего, но и будущего; она всасывается с материнским молоком; она, подобно злокачественной сыпи, передается наследственно.
А так как подобных местностей нам не занимать стать, то делается отчасти даже холодно при мысли о той силе, которую, с течением времени, должны забрать волчцы.
Итак, с одной стороны, неустойчивость как следствие непонимания мысли и неимения поводов привязаться к ней; с другой стороны, та же неустойчивость, как следствие природной податливости и рыхлости обывательских нравов… невольно спрашиваешь себя: какую же цель имеет существование литературы? Кому она нужна? что̀ она может?
И между тем все-таки сдается, что литература нечто еще может. Самая живучесть ее дает повод думать, что будущее принадлежит ей, а не брюхопоклонникам.
Что торжество брюхопоклонников есть факт совершившийся и не подлежащий спору — это так; но прежде, нежели выводить какие-либо заключения, вглядитесь ближе в это явление, вслушайтесь пристальнее в эти ликующие клики и вы убедитесь, что тут уже кроется какой-то изъян. Лица победителей не поражают тою полнотою самодовольства, какая приличествует лицам действительных триумфаторов; торжественные их гимны отличаются шумом и восторженностью, но истинной, проливающей в душу безмятежие, гармонии все-таки не дают. Ясно, что современный триумфатор еще не считает своего дела завершенным, что он еще чувствует потребность кой-кого ущипнуть, кой-кого уязвить, кой-кого умертвить. Он мрачен и даже по временам, уподобляясь разъяренному самцу гориллы, плотоядно щелкает зубами. Он боится, чтоб у него как-нибудь не отняли то мясо, на которое он заглядывается; он боится, чтобы между ним и тою растленною наготою, которая одна в состоянии пробуждать его вожделения, не опустился, сверх ожидания, занавес. Все это заставляет заключать, что материал исчерпан еще не весь…
Если бы на сцене были одни триумфаторы, тогда живописцу оставалось бы только бросить свои кисти, или же нарисовать на полотне пятно и подписать под ним: «Мрак времен». Но оказывается, что дело совсем не так просто; что рядом с триумфаторами усматриваются и побежденные и что шумные и восторженные клики первых удачно оттеняются голосами стенящих, алчущих и вопиющих. Таким образом, общий голос торжества утрачивает до известной степени томительное свое однообразие и является полною музыкальною пьесой. Побежденные еще налицо; они изранены, искалечены, но не изгибли.
Как хотите, а это все-таки признак. Ежели еще не вполне устранилась потребность озираться, преследовать и подозревать, стало быть, не все еще предано беспробудному сну, стало быть, еще живо в обществе нечто такое, что не допускает его окончательно обрюзгнуть и умереть. Конечно, время, которое мы переживаем, и тревожно, и тяжело, но все же оно подчиняется известным определениям и, следовательно, не может быть названо мраком времен в полном значении этого слова. Осмотритесь кругом и вы увидите, что уже найдены некоторые рамки для более правильного течения жизни, а этого одного достаточно, чтоб осветить будущее лучом надежды. Положим, что рамки эти пришли к нам как будто со стороны, что общество тут ни при чем и даже нередко высказывает по поводу их чувство явно враждебное; но утешимся тем, что это рамки такого рода, которые, будучи раз поставлены, сдвигаются с места гораздо труднее, нежели даже прилаживаются к нему. Говорят, что отыскать рамки для задуманного дела уже значит наполовину обеспечить успех его, — и это вполне справедливо. Важно уже то, что брюхопоклонник видит перед собой эти рамки и привыкает к ним; привычка — великое дело; и если она однажды приобретена, то человек даже закоснелый начинает мало-помалу усматривать выгоды, которые представляет для него лучший порядок вещей. Необходимость ограничивать свои желания желаниями других, необходимость смягчать дикость инстинктов — вот та великая школа, которой суждено в будущем покорить вредную секту брюхопоклонников. *