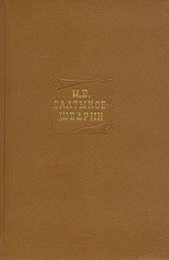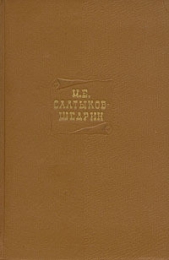Том 5. Критика и публицистика 1856-1864
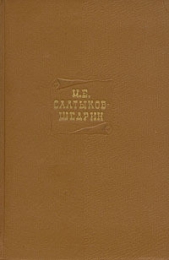
Том 5. Критика и публицистика 1856-1864 читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В пятый том настоящего издания входят критика и публицистика Салтыкова 1856–1864 годов, кроме отнесенных в следующий, шестой том «хроник» из цикла «Наша общественная жизнь», примыкающих к этому циклу статей «Современные призраки», «Как кому угодно», «В деревне», а также материалов журнальной полемики Салтыкова с «Русским словом» и «Эпохой».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поэтому нельзя не взирать без сожаления на те редкие случаи, когда мы отказываемся от привычной нам опрятности в словах, ежели не в мыслях и действиях. Подобный поразительный случай, к величайшему удивлению, встретился недавно на страницах «Вестника промышленности» (февраль 1860 года), в статье под названием: «Косвенные налоги с фабрик» по поводу некоего чудовищного дела, случившегося в городе Нововласьевске.
Любезные обыватели разных концов России любят посвящать свободные от отдохновения часы литературным потугам разного рода, результатом которых бывает сообщение публике некоторых узловатых и шишковатых дел. Стремление похвальное, и я отнюдь не намерен порицать его, ибо сам был неоднократно свидетелем того, как лезли глаза на лоб у некоторых администраторов при напоминании о замаранных их хвостах. Конечно, литературным этим опытам мешает то, что в них всегда присутствует какое-то странное балагурство à la половой или à la гостинодворец. Но и это опять не беда, если принять в соображение, что мы вообще народ не словесный и что недалеко еще то время, когда, кроме «папы» да «мамы», мы и слов других произносить не смели. Тем не менее не отыскивалось еще такого пишущего ироя, который взялся бы публично защищать аферу, основанную на человеческом мясе, и столь же публично клеветать на тех, которые сию неприличную аферу называли принадлежащим ей именем.
В статье «Косвенные налоги на фабрики» рассказывается дело, положительно и близко мне известное во всех его гадких подробностях. Рассказывается оно следующим образом. В городе Нововласьевске некоторые добродетельные фабриканты задумали облагодетельствовать своих ближних. В этих мыслях они начали, благословясь, выкупать на волю у соседних помещиков мужичков и приглашать их к себе на фабрику, где «судя по тому, что всякая 12-ти летняя девочка зарабатывает от трех до пяти руб. в месяц, то сколько же должны получать совершеннолетние». Где «директор не брезгует русским народом» (вот-то достоинство особого рода), где «вникают в быт рабочих людей и помогают им в нуждах». Шутка сказать: ешь, пей и веселись. Тем не менее подобно тому, как невинного ребенка, доверчиво купающегося в волнах Нила, стережет из-за камышей крокодил, так и благодетельных купцов стерегли, среди их невинных занятий, не один, а два крокодила: некто Бесчленный и некто Лисичка *. Виноват, в рассказе есть еще третий крокодил: Эмансипация. Этот последний крокодил, я думаю, был даже поважнее первых двух, потому что без него ни Бесчленный, ни Лисичка, будь они семи пядей во лбу, пороха бы не выдумали. И посмотрите, как все просто сделалось. Бесчленному и Лисичке понадобились деньги — ну, разумеется, к кому же и обратиться, как не к благодетелям рода человеческого. Однако «фабриканты, зная образ жизни просивших, отказали».
…Не говоря худого слова, Бесчленный и Лисичка призвали простодушных мужичков, да вдруг и объявили им: вы, дескать, вольные… или нет: вы, дескать, и без того будете вольные. Неизвестно, что померещилось нашим мужичкам, но они внезапно вообразили, что была между фабрикантом и помещиками какая-то темная стачка — «взяли да и подали просьбу, что их приписали к Нововласьевскому мещанскому обществу без согласия». Здесь является четвертый крокодил — губернатор, который назначает следствие, и, наконец, пятый крокодил — чиновник особых поручений, который производит следствие *. Этот последний описан особенно уморительным образом. «Он должен быть польский жид, помесь с альбиносом, глаза — белые, с кровавыми оттенками, и таращит их, как корова, которую ведут на бойню; нос крючком», и т. д. Увы, мы, русские, не можем обойтись без наружного остроумия. Если кто-нибудь сделал не по-нашему, то, наверное, у него или глаза коровьи, или нос крючком. Это не нами заведено, не нами и кончится: в этом состоит наш насущный обывательский юмор. Разумеется, этот г. Помесь действует самым гнусным образом: с первого же раза требует у фабриканта тридцать тысяч целковеньких (ах, если бы знал ты, злосчастный Помесь, о своих неумеренных требованиях! С каким бы удовольствием съехал бы ты хоть, ну хоть на одну тысячку), застращивает людей (то есть тех же самых, которые возбудили все дело), сажает без всякой причины в острог некоего незнакомца Самознаева, единственно потому, что ему так от начальства приказано [16], и к довершению всего (о глупый дурак!) рассказывает о своих подвигах всем и каждому, в том числе и ему, Проезжему. Разумеется, из всего этого выходит нечто чудовищное, ибо невинность страждет, а порок и злодейство торжествуют. Итак, вот как опасно, милые дети, купаться в Ниле благодеяний.
Рассказ, сверх того, украшен разными эпизодами. Во-первых, является городничий Банин, оторванный, по несправедливости начальства, от тучных пажитей Нововласьевска и брошенный на бесплодные скалы Горогорска. Этот Банин имеет мутные от слез глаза и, подобно Пояркову Печерского, поющему под тенью дерев «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», беспрестанно бормочет себе под нос «не бойся суда, а бойся судьи» *. Сверх того, он обливает слезами и беспрестанно целует часы, нечаянно подаренные ему растроганными нововласьевцами. Этот городничий — прелесть. Во-вторых, является губернатор, который купает в теплой воде своих малолетних детей. В-третьих, вся обстановка наивна и поэтична до крайности: действующие лица беспрестанно проходят по водочке, закусывают груздочками, слушают каких-то певиц <«Мои споют тебе что-нибудь», — говорит некто г. Немилов. Кто это мои? Я подозреваю, что эти «мои» — те самые существа, которых в шутливом русском тоне называют «канарейками» и за излишнее разведение которых люди, подобные г. Немилову (а отчего же и не сам Немилов), попадают под опеку> и выпивают целые партии шампанского.
И вот, можете себе представить, что дело происходило совершенно иначе, нежели рассказывает г. Проезжий.
Благоразумный читатель, еще при чтении самой статьи Проезжего, почувствует, что есть в ней что-то неладное, как будто шитое живыми нитками. Откуда и с чего, например, эта внезапная злоба против благодетельных фабрикантов со стороны так называемых губернских властей? Может ли существовать на свете такая губерния, где губернатор занимается только купанием детей своих, и вице-губернатор послушен не совести своей, а приказаниям какого-то младшего секретаря губернского правления? Возможны ли, наконец, городничие, обливающие слезами подаренные им часы? Все это такого рода вопросы, которые могут смутить и не слишком дальновидного читателя, но не смутили Проезжего, который, по-видимому, совершенно доволен самим собой.
Я не хочу брать на себя защиту человека, именуемого помесью жида с альбиносом. Может быть, он хотел взять деньги с добрых фабрикантов, может быть, и не хотел — это тайна между ним и фабрикантами. Но что он не взял денег, это не подлежит никакому сомнению и явствует из самого простого изложения обстоятельств этого дела. Постараюсь быть кратким.
В апреле 1858 года некоторые вольноотпущенные от помещиков Нововласьевского и соседнего с ним уезда (назовем его хоть Сараевским) принесли жалобу местному начальнику губернии (кстати заметим, что как губернатор, так и вице-губернатор, о которых идет речь в рассказе Проезжего, были только что определены к своим должностям * и не имели никакого понятия о благодетельных фабрикантах) на контору фабрики братьев Х. в том, что последняя, против их желания, причисляет их к Нововласьевскому мещанскому обществу, причем часть жалобщиков оглашала и то, что самое увольнение их от помещиков произошло без их согласия, а по принуждению и посредством угроз. На первый же спрос следователя вольноотпущенные крестьяне и дворовые люди показали: а) что помещики прислали их на фабрику для заработков и приказывали повиноваться директору фабрики, как самим себе, стращая, в противном случае, солдатством; б) что некоторым из них во время переговоров помещики их давали какие-то бумаги для подписания, но какие — им неизвестно; в) что о том, что они вольные, они узнали только по случаю производства 10-й народной переписи, когда их стали приписывать к Нововласьевскому мещанскому обществу; г) что от имени их заключены с конторою фабрики какие-то контракты на зажитие денег, внесенных за них фабрикантами, но они контрактов этих лично не заключали и о заключении их никого не просили и д) что содержание им выдается на фабрике скудное, директор фабрики притесняет их, а местный городничий (тот самый, который обливает слезами подаренные часы) жестоко их наказывает по первому требованию фабричного управления. В доказательство жестокого обращения на фабрике один из крестьян привел 18-го июня 1858 года к следователю своего двенадцатилетнего сына, и по свидетельству медика оказалось: на руке у него красная полоса в два вершка длиной и полвершка шириной, очевидно, происшедшая от удара ремнем. Из собранных следователем сведений от фабричной конторы и местных присутственных мест видно, что фабрика братьев Х. с половины 1857 года (о, эмансипация) по февраль 1858 года выкупила на волю 66 человек помещичьих крестьян, и притом в большинстве случаев не поодиночке, а партиями, так, например: у одного помещика выкуплено 31 человек. Прошения, при которых были явлены отпускные в уездный суд, в большинстве случаев, писаны и подписаны за крестьян, как за безграмотных, посторонними лицами; в получении отпускных расписывались тоже посторонние лица. Большею частью подписчиком является тот самый Самознаев, о котором упоминается в статье Проезжего. Были при этом такие случаи (и нередко), что при явке отпускной расписывалось, за неумением грамоте, постороннее лицо, а при получении (чрез несколько, впрочем, месяцев) расписывался сам получивший свободу. Из расчетных книжек выкупленных крестьян не видно, какая им производится ежемесячная плата, хотя в каждой из них есть особая страница с заголовком: «поряжен в работу на год с платою в месяц». Вообще, из этих книжек можно извлечь только сведение о той сумме, которую крестьянин должен заработать, и о том, сколько именно зачтено фабрикантом из заработной платы на погашение долга. В этом отношении есть указания весьма любопытные. Так, например, один крестьянин (назовем его хоть Константином Трифоновым), обязанный с женой и братом заработать 600 руб. сер., в течение полугода уменьшил свой долг на 32 руб. 15 к., но из этого числа вычтено конторою фабрики штрафных и на лекарство 17 руб. 55 к., так что Трифоновым погашено долга, в сущности, только 14 руб. 60 к. Если предположим, что он и впредь будет таким же образом действовать, то годовую его заработку следует считать в 29 руб. 20 к.; спрашивается теперь, во сколько лет это несчастное семейство освободится от тяготеющей над ним кабалы? Но возьмем более благоприятный пример: крестьянина Михаила Евстафьева. Крестьянин этот с братом и двумя женщинами, обязанный заработать также 600 руб., в шесть месяцев заработал 42 руб. 25 к., из которых вычтено 5 руб. 85 к. Если семья эта вперед будет действовать столь же успешно, то ежегодное погашение его долга будет выражаться суммою 72 руб. 80 к., и, следовательно, она освободится от кабалы лишь в течение восьми с половиною лет. Но идем дальше. Крестьяне показали, что от имени их заключены контракты, содержание которых им неизвестно; следователь пожелал познакомиться с этим содержанием — что может быть естественнее. Контракты эти заключались в следующем: во-первых, от крестьян, принадлежавших одному и тому же помещику и привезенных на фабрику в одной и той же партии, всегда писался один контракт; во-вторых, крестьяне обязывались заработать взнесенную за них сумму в течение 4-х лет «или более или менее» (тогда как закон положительно воспрещает заключать контракты на зажитие рабочими денег более, нежели на четыре года); в-третьих, предоставляли управлению фабрики право исправлять их полицейскими мерами, и, в-четвертых, ручались друг по друге относительно непременной заработки внесенных денег, так что если бы кто из них умер, не заработавши своей части, то часть эта падала бы на остальных. (Любопытно знать, если бы, например, из пяти человек, заключивших контракт, четверо в течение первых двух лет умерли, то обязан ли был бы пятый, оставшийся в живых, контрагент заживать внесенные за всех деньги, и сколько времени потребовалось бы, чтобы достичь этой цели? В этом случае люди, употребившие свой досуг на составление контрактов, делали не только противозаконное, но, по мнению моему, даже просто глупое дело.) При этом весьма важно следующее: 1) что в большей части случаев контракты подписаны за крестьян, по безграмотству их, посторонними людьми, тогда как между крестьянами многие грамоте знают, и 2) что контракты писаны от имени крестьян, как вольноотпущенных, тогда как по делу доказано, что во время заключения контрактов отпускные контрагентов не только не были выданы им, но даже не были явлены в суде.