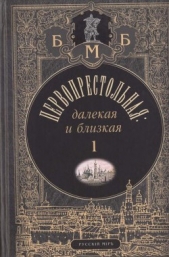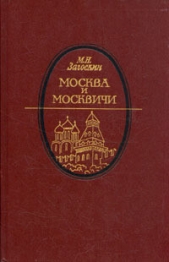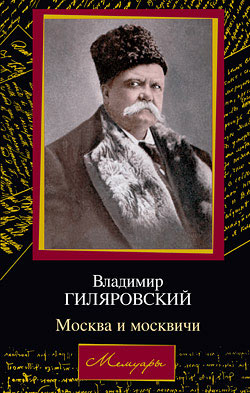Том 4. Москва и москвичи. Стихотворения

Том 4. Москва и москвичи. Стихотворения читать книгу онлайн
В четвертый том Сочинений вошли книги «Москва и москвичи», стихотворения и экспромты.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что еще там? — раздался позади меня голос, и из двери вышел человек в черном сюртуке, а следом за ним двое остановились на пороге, заглядывая к нам. Человек в сюртуке повернулся ко мне, и мы оба замерли от удивления.
— Это вы? — воскликнул человек в сюртуке и одним взмахом отшиб в сторону вскочившего с пола и бросившегося на меня банкомета, борода которого была в крови. Тот снова упал. Передо мной, сконфуженный и пораженный, стоял беговой «спортсмен», который вез меня в своем шарабане. Все остальные окаменели.
Он выхватил из рук еще стоявшего у стола Оськи кружку с пивом и выплеснул на пол.
— Убери! — приказал он дрожавшей от страха полковнице. — Владимир Алексеевич, как вы сюда попали? Зайдемте ко мне в комнату.
— Ну вас к черту! Я домой…
И, надвинув шапку, я шагнул к двери. На полу стонал, лежа на брюхе и выплевывая зубы, банкомет.
— Нет, нет, я вас провожу!..
Выскочил за мной, под локоть помогая мне подняться по избитым камням лестницы, и бормотал извинения…
Я упорно молчал. В голове мелькало: «Концы в воду, Ларепланд с «малинкой», немец, кружка с птицей…»
«Спортсмен» продолжал рассыпаться передо мной в извинениях и между прочим сказал:
— Все-таки я вас спас от Самсона. Он ведь мог вас изуродовать.
— Ну, спас-то я себя сам, потому что «малинки» не выпил.
— Откуда вы знаете? — встрепенулся он и вдруг спохватился и уже другим тоном добавил: — Какой такой «малинки»?
— А которую ты выплеснул из кружки. Мало ли что я знаю.
— Вы… вы… — Зубы стучали, слово не выходило.
— Все знаю, да молчать умею.
— Вижу-с. Вот потому-то я хотел, чтобы вы ко мне в комнату зашли. Там отдельный выход. Приятели собрались… В картишки поиграть. Ведь я здесь не живу.
— Видел… Голиафа, маркера, узнал.
— Да… он под рукой сидел… метал Кречинский. Там еще Цапля… Потом Ватошник, потом…
— Ватошник? Тимошка? Да ведь он сыщик!
— Кому сыщик, а нам дружок… Еще раз, простите великодушно.
— Помни: я все знаю, но и виду не подам никогда. Будто ничего не было. Прощай! — крикнул я ему уже из калитки…
При встречах «спортсмен» старался мне не показываться на глаза, но раз поймал меня одного на беговой аллее и дрожащим голосом зашептал:
— Обещались, Владимир Алексеевич, а вот в газете-то что написали? Хорошо, что никто внимания не обратил, прошло пока… А ведь как ясно — Феньку все знают за полковницу, а барона по имени-отчеству целиком назвали, только фамилию другую поставили, его ведь вся полиция знает, он даже прописанный. Главное вот барон…
— Ну, успокойся, больше не буду. Действительно, я напечатал рассказ «В глухую», где подробно описал виденный мною притон, игру в карты, отравленного «малинкой» гостя, которого потащили сбросить в подземную клоаку, приняв за мертвого. Только Колосов переулок назвал Безымянным. Обстановку описал и в подробностях, как живых, действующих лиц. Барон Дорфгаузен, Отто Карлович… и это действительно было его настоящее имя.
А эпиграф к рассказу был такой:
«…При очистке Неглинного канала находили кости, похожие на человеческие…»
Драматурги из «Собачьего зала»
Все от пустяков — вроде дырки в кармане. В те самые времена, о которых я пишу сейчас, был у меня один разговор:
— Персидская ромашка! О нет, вы не шутите, это в жизни вещь великая. Не будь ее на свете — не был бы я таким, каким вы меня видите, а мой патрон не состоял бы в членах Общества драматических писателей и не получал бы тысячи авторского гонорара, а «Собачий зал»… Вы знаете, что такое «Собачий зал»?..
— Не знаю.
— А еще репортер известный, «Собачьего зала» не знаете!
Разговор этот происходил на империале вагона конки, тащившей нас из Петровского парка к Страстному монастырю. Сосед мой, в свеженькой коломянковой паре, шляпе калабрийского разбойника и шотландском шарфике, завязанном «неглиже с отвагой, а ля черт меня побери», был человек с легкой проседью на висках и с бритым актерским лицом. Когда я на станции поднялся по винтовой лестнице на империал, он назвал меня по фамилии и, подвинувшись, предложил место рядом. Он курил огромную дешевую сигару. Первые слова его были:
— Экономия: внизу в вагоне пятак, а здесь, на свежем воздухе, три копейки… И не из экономии я езжу здесь, а вот из-за нее… — И погрозил дымящейся сигарищей. — Именно эти сигары только и курю… Три рубля вагон, полтора рубля грядка, да-с, — клопосдохс, настоящий империал, потому что только на империале конки и курить можно… Не хотите ли сделаться империалистом? — предлагает мне сигару.
— Не курю, — и показал ему в доказательство табакерку, предлагая понюшку.
— Нет уж, увольте. Будет с меня домашнего чиханья.
А потом и бросил ту фразу о персидской ромашке… Швырнул в затылок стоявшего на Садовой городового окурок сигары, достал из кармана свежую, закурил и отрекомендовался:
— Я — драматург Глазов. Вас я, конечно, знаю.
— А какие ваши пьесы? — Мои? А вот…
И он перечислил с десяток пьес, которые, судя по афишам, принадлежали перу одного известного режиссера, прославившегося обилием переделок иностранных пьес. Его я знал и считал, что он автор этих пьес.
— Послушайте, да вы перечисляете пьесы, принадлежащие… — Я назвал фамилию.
— Да, они принадлежали ему, а автор их — я. Семнадцать пьес в прошлом году ему сделал и получил за это триста тридцать четыре рубля. А он на каждой сотни наживает, да и писателем драматическим числится, хотя собаку через «ять» пишет. Прежде в парикмахерской за кулисами мастерам щипцы подавал, задаром нищих брил, постигая ремесло, а теперь вот и деньги, и почет, и талантом считают… В Обществе драматических писателей заседает… Больше ста пьес его числится по каталогу, переведенных с французского, английского, испанского, польского, венгерского, итальянского и пр. и пр. А все они переведены с «арапского»!
— Как же это случилось?
— Да так. Года два назад написал я комедию. Туда, сюда — не берут. Я — к нему в театр. Не застаю. Иду на дом. Он принимает меня в роскошном кабинете. Сидит важно, развалясь в кресле у письменного стола.
— Написал я пьесу, а без имени не берут. Не откажите поставить свое имя рядом с моим, и гонорар пополам, — предлагаю ему,
Он взял пьесу и начал читать, а мне дал сигару и газету.
— И талант у вас есть, и сцену знаете, только мне свое имя вместе с другим ставить неудобно. К нашему театру пьеса тоже не подходит.
— Жаль!
— Вам, конечно, деньги нужны? Да?
— Прямо жить нечем.
— Ну так вот, переделайте мне эту пьесу.
И подал мне французскую пьесу, переведенную одним небезызвестным переводчиком, жившим в Харькове.
Я посмотрел новенькую, только что процензурованную трехактную пьесу.
— Как переделать? Да ведь она переведена!
— Да очень просто: сделать нужно так, чтобы пьеса осталась та же самая, но чтобы и автор и переводчик не узнали ее. Я бы это сам сделал, да времени нет… Как эту сделаете, я сейчас же другую дам.
Я долго не понимал сначала, чего он, собственно, хочет, а он начал мне способы переделки объяснять, и так-то образно, что я сразу постиг, в чем дело.
— Ну-с, так через неделю чтобы пьеса была у меня. Неделя — это только для начала, а там надо будет пьесы в два дня перешивать.
Через неделю я принес. Похвалил, дал денег и еще пьесу. А там и пошло, и пошло; два дня — трехактный фарс и двадцать пять рублей. Пьеса его и подпись его, а работа целиком моя.
Я заинтересовался, слушал и ровно ничего не понимал.
Вагон остановился у Страстного, и, слезая с империала, Глазов предложил мне присесть на бульваре, у памятника Пушкину. Он рассказывал с увлечением. Я слушал со вниманием.
— Как же вы переделывали и что? Откуда же режиссер брал столько пьес для переделки? — спросил я.
— Да ведь он же режиссер. Ну, пришлют ему пьесу для постановки в театре, а он сейчас же за мной. Прихожу к нему тайком в кабинет. Двери позатворяет, слышу — в гостиной знакомые голоса, товарищи по сцене там, а я, как краденый. Двери кабинета на ключ. Подает пьесу — только что с почты — и говорит: