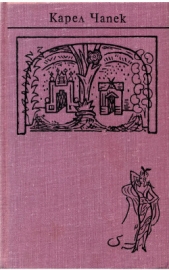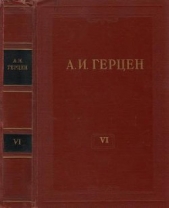Том 8. Статьи

Том 8. Статьи читать книгу онлайн
В восьмом томе Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя печатаются его критические и публицистические статьи, относящиеся к двум различным периодам жизни и творчества Гоголя. Значительная их часть приходится на годы 1831–1836, другая часть падает на последние годы жизни писателя, 1845–1850. В промежутке между этими периодами Гоголь написал лишь одну небольшую рецензию на альманах «Утренняя заря» на 1842 год, напечатанную в «Москвитянине» 1842 г. со значительными дополнениями М. П. Погодина.
В данной электронной редакции опущены разделы "Другие редакции" и "Варианты".
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Оттого весьма многие, не поняв, считали подобные обороты бессмыслицей. Чувство у них выражается вдруг, сильно, резко и никогда не охлаждается длинным периодом. Во многих песнях нет одной общей мысли, так что они походят на ряд куплетов, из которых каждый заключает в себе отдельную мысль. Иногда они кажутся совершенно беспорядочными, потому что сочиняются мгновенно, и так как взгляд народа жив, то обыкновенно те предметы, которые первые бросаются на глаза, первые помещаются и в песни. Но зато из этой пестрой кучи вышибаются такие куплеты, которые поражают самою очаровательною безотчетностью поэзии. Самая яркая и верная живопись и самая звонкая звучность слов разом соединяются в них. Песня сочиняется не с пером в руке, не на бумаге, не с строгим расчетом, но в вихре, в забвении, когда душа звучит и все члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положение, становятся свободнее, руки вольно вскидываются на воздух и дикие волны веселья уносят его от всего. Это примечается даже в самых заунывных песнях, которых раздирающие звуки с болью касаются сердца. Они никогда не могли излиться из души человека в обыкновенном состоянии, при настоящем воззрении на предмет. Только тогда, когда вино перемешает и разрушит весь прозаический порядок мыслей, когда мысли непостижимо странно в разногласии звучат внутренним согласием, в таком-то разгуле, торжественном, больше нежели веселом, душа, к непостижимой загадке, изливается нестерпимо-унылыми звуками. Тогда прочь дума и бдение! Весь таинственный состав его требует звуков, одних звуков. Оттого поэзия в песнях неуловима, очаровательна, грациозна, как музыка. Поэзия мыслей более доступна каждому, нежели поэзия звуков, или, лучше сказать, поэзия поэзии. Ее один только избранный, один истинный в душе поэт понимает; и потому-то часто самая лучшая песня остается незамеченною, тогда как незавидная выигрывает своим содержанием.
Стихосложение малороссийское самое выгодное для песен: в нем соединяются вместе и размер, и тоника, и рифма. Падение звуков в них скоро, быстро; оттого строка никогда почти не бывает слишком длинна; если же это и случается, то цезура посередине с звонкою рифмою перерезывает ее. Чистые, протяжные ямбы редко попадаются. Большею частию быстрые хореи, дактили, амфиврахии летят шибко один за другим, прихотливо и вольно мешаются между собою, производят новые размеры и разнообразят их до чрезвычайности. Рифмы звучат и сшибаются одна с другою, как серебряные подковы танцующих. Верность и музыкальность уха — общая принадлежность их. Часто вся строка созвукивается с другою, несмотря, что иногда у обеих даже рифмы нет. Близость рифм изумительна. Часто строка два раза терпит цезуру и два раза рифмуется до замыкающей рифмы, которой сверх того дает ответ вторая строка, тоже два раза созвукнувшись на середине. Иногда встречается такая рифма, которую по-видимому нельзя назвать рифмою, но она так верна своим отголоском звуков, что нравится иногда более, нежели рифма, и никогда бы не пришла в голову поэту с пером в руке.
Характер музыки нельзя определить одним словом: она необыкновенно разнообразна. Во многих песнях она легка, грациозна; едва только касается земли и, кажется, шалит, резвится звуками. Иногда звуки ее принимают мужественную физиогномию; становятся сильны, могучи, крепки; стопы тяжело ударяют в землю, и кажется, как будто бы под них можно плясать одного только гопака. Иногда же звуки ее становятся чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантские, силящиеся обхватить бездну пространства, вслушиваясь в которые танцующий чувствует себя исполином: душа его и всё существование раздвигается, расширяется до беспредельности. Он отделяется вдруг от земли, чтобы ударить в нее блестящими подковами и взнестись опять на воздух. Что же касается до музыки грусти, то она нигде не слышна так, как у них. Тоска ли это о прерванной юности, которой не дали довеселиться; жалобы ли это на бесприютное положение тогдашней Малороссии…, но звуки ее живут, жгут, раздирают душу. Русская заунывная музыка выражает, как справедливо заметил М. Максимович, забвение жизни: она стремится уйти от нее и заглушить вседневные нужды и заботы; но в малороссийских песнях она слилась с жизнью — звуки ее так живы, что, кажется, не звучат, а говорят: говорят словами, выговаривают речи, и каждое слово этой яркой речи проходит душу. Взвизги ее иногда так похожи на крик сердца, что оно вдруг и внезапно вздрагивает, как будто бы коснулось к нему острое железо. Безотрадное, равнодушное отчаяние иногда слышится в ней так сильно, что заслушавшийся забывается и чувствует, что надежда давно улетела из мира. В другом месте отрывистые стенания, вопли, такие яркие, живые, что с трепетом спрашиваешь себя: звуки ли это? Это невыносимый вопль матери, у которой свирепое насилие вырывает младенца, чтобы с зверским смехом расшибить его о камень. Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только народ имел поэтическое расположение, разнообразие и деятельность жизни; если натиски насилий и непреодолимых вечных препятствий не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали из него жалобы и если эти жалобы не могли иначе и нигде выразиться, как только в его песнях. Такова была беззащитная Малороссия в ту годину, когда хищно ворвалась в нее уния. По ним, по этим звукам, можно догадываться о ее минувших страданиях, так точно, как о бывшей буре с градом и проливным дождем можно узнать по бриллиантовым слезам, унизывающим снизу до вершины освеженные деревья, когда солнце мечет вечерний луч, разреженный воздух чист, вдали звонко дребезжит мычание стад, голубоватый дым — вестник деревенского ужина и довольства — несется светлыми кольцами к небу, и вечер, тихий, ясный вечер обнимает успокоенную землю. 1833.
Мысли о географии
Велика и поразительна область географии: край, где кипит юг и каждое творение бьется двойною жизнью, и край, где в искаженных чертах природы прочитывается ужас и земля превращается в оледенелый труп; исполины-горы, парящие в небо, наброшенный небрежно, дышащий всею роскошью растительной силы и разнообразия вид, и раскаленные пустыни и степи, оторванный кусок земли посреди безграничного моря, люди и искусство, и предел всего живущего! Где найдутся предметы, сильнее говорящие юному воображению! Какая другая наука может быть прекраснее для детей, может быстрее возвысить поэзию младенческой души их! И не больно ли, если показывают им, вместо всего этого, какой-то безжизненный, сухой скелет, холодно говоря: «Вот земля, на которой живем мы, вот тот прекрасный мир, подаренный нам непостижимым его зодчим!» Этого мало: его совершенно скрывают от них и дают им вместо того грызть политическое тело, превышающее мир их понятий и несвязное даже для ума, обладающего высшими идеями. Невольно при этом приходит на мысль: неужели великий Гумбольт и те отважные исследователи, принесшие так много сведений в область науки, истолковавшие дивные иероглифы, коими покрыт мир наш, — должны быть доступны немногому числу ученых? а возраст, более других нуждающийся в ясности и определительности, должен видеть перед собою одни непонятные изображения?
Детский возраст есть еще одна жажда, одно безотчетное стремление к познанию. Он всего требует, всё хочет узнать. Его более всего интересуют отдаленные земли: как там? что там такое? какие там люди? как живут — эти вопросы стремятся у него толпою, и все они относятся прямо к физической географии, и потому мир в его физическом состоянии — величественный, роскошный, грозный, пленительный — должен более и обширнее занять его.
Во многих заведениях наших, по невозможности воспитанников узнать в один год всей географии, читают ее в двух и даже в трех классах. Это хорошо, и география стоит, чтоб ее проходили не в одном классе; но преподаватели впадают в большую ошибку: размежевывают земной шар на две или, смотря по классам, на три части, и самому начальному классу достается Европа, рассматриваемая обыкновенно в политическом отношении с подробнейшими подробностями, тогда как высшие классы блуждают по степям и пескам африканским и беседуют с дикарями. Не говоря уже о безрассудности и странной форме такого преподавания, нужно иметь необыкновенную память, чтобы удержать в ней всю эту нестройную массу. Если же и допустить такой феномен в природе, то в голове этого феномена никогда не удержится одно прекрасное целое. Это будут тщательно отделанные, разрозненные части, которыми не управляет одна мощная жизнь, бьющая ровным пульсом по всем жилам. Это народ, созданный для монархического правления и утративший его в буре политических потрясений.