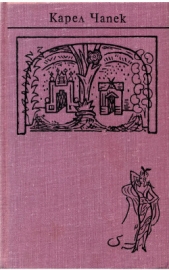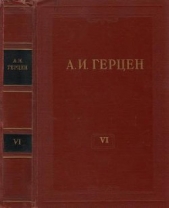Том 8. Статьи

Том 8. Статьи читать книгу онлайн
В восьмом томе Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя печатаются его критические и публицистические статьи, относящиеся к двум различным периодам жизни и творчества Гоголя. Значительная их часть приходится на годы 1831–1836, другая часть падает на последние годы жизни писателя, 1845–1850. В промежутке между этими периодами Гоголь написал лишь одну небольшую рецензию на альманах «Утренняя заря» на 1842 год, напечатанную в «Москвитянине» 1842 г. со значительными дополнениями М. П. Погодина.
В данной электронной редакции опущены разделы "Другие редакции" и "Варианты".
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Миллер представляет собою историка совершенно в другом роде. Спокойный, тихий, размышляющий, он представляет противоположность Шлецеру. Он с какою-то очаровательною, особенною любовью предается своему предмету. Его слог не блестит тем резким отличием, каким означен слог Шлецера; нет тех порывов, того меткого лаконизма, какими исполнен Шлецер. Он не схватывает вдруг за одним взглядом всего и не сжимает его мощною рукою, но он исследывает всё находящееся в мире спокойно, поочередно, не показывая той быстроты и поспешности, с какою выражается автор, опасающийся, чтобы у него не перехватил кто-нибудь мысли и не предупредил его. Слово исследование весьма идет к его стилю; его повествование именно исследовательное. Как человек государственный, он более всего занимается изложением форм правления и законов существующих и минувших государств; но он не предпочитает эту сторону до такой степени, чтобы оставить совершенно в тени все другие, к чему способен бывает историк односторонний и чего не мог избежать и Герен, напротив того, он обращает внимание и на всё сопредельное. Всё, что не ясно в истории, что менее разоблачено, всё это более другого подвергается его исследованию. Заметно даже, что он охотнее занимается временами первобытными и вообще теми эпохами, когда народ еще не был подвержен образованности и порокам, сохранял свои простые нравы и независимость. Это время изображает он с ясною подробностию, с тихим жаром, как будто позабываясь и воображая видеть себя среди своих добрых швейцарцев. Главный результат, царствующий в его истории, есть тот, что народ тогда только достигает своего счастия, когда сохраняет свято обычаи своей старины, свои простые нравы и свою независимость. Везде в нем видны старческая мудрость и младенческая ясность души. Благородство мыслей и любовь к свободе проникают всё его творение. Мысль о единстве и нераздельной целости не служит такою целью, к которой бы явно устремлялось его повествование; он даже никогда не говорит о нем, но единство чувствуется в целом творении несмотря на то, что он, кажется, забывает вовсе дела всего мира, занявшись одним народом. История его не состоит из непрерывной движущейся цепи происшествий; драматического искусства в нем нет; везде виден размышляющий мудрец. Он не выказывает слишком ярко своих мыслей; они у него таятся так скромно, иногда в таком незаметном уголке, что не ищущий не найдет их никогда; но зато они так высоки и глубоки, что открывшему их открывается, по выражению Вагнера в Фаусте, на земле небо. Этот скромный, незаметный слог его и отсутствие ослепляющей яркости производит в душе невольное сожаление: чрез него Миллер очень мало известен или, лучше сказать, не так известен, как должен бы быть. Одни сильно проникнутые мыслью о истории и способные к тонкому развитию могут только вполне понимать его, другим же он кажется легким и не глубокомысленным.
Гердер представляет совершенно отличный образ воззрения. Он видит уже совершенно духовными глазами. У него владычество идеи вовсе поглощает осязательные формы. Везде он видит одного человека как представителя всего человечества. Он выпытывает глубоко, вдохновенно, как брамин природы, — название, которое придают ему немцы. У него крупнее группируются события; его мысли все высоки, глубоки и всемирны. Они у него являются мало соединенными с видимою природою и как будто извлеченными из одного только чистого ее горнила. Оттого они у него не имеют исторической осязательности и видимости. Если событие колоссально и заключается в идее — оно у него развертывается всё, со всеми своими сокровенными явлениями; но если слишком коснулось жизни и практического, оно у него не получает определенного колорита. Если он нисходит до частных лиц и деятелей истории, они у него не так ярки, как общие группы; они принимают слишком общую физиогномию; они у него или добрые, или злые; все бесчисленные оттенки характеров, всё смешение и разнообразие качеств, познание которых достается в удел взирающему с недоверчивостию на других, все эти оттенки у него исчезли. Он мудрец в познании идеального человека и человечества, но младенец в познании человека, по весьма естественному ходу вещей, как всегда мудрец бывает велик в своих мыслях и невежа в мелочных занятиях жизни. Как поэт он выше Шлецера и Миллера. Как поэт он всё создает и переваривает в себе, в своем уединенном кабинете, полный высшего откровения, избирая только одно прекрасное и высокое, потому что это уже принадлежность его возвышенной и чистой души. Но высокое и прекрасное вырываются часто из низкой и презренной жизни или же вызываются натиском тех бесчисленных и разнохарактерных явлений, которые беспрестанно пестрят жизнь человеческую и которых познание редко дается отвлеченному от жизни мудрецу. Стиль его более нежели у кого другого, исполнен живописи и широкого размера, потому что он поэт и этим резко отличается от Миллера, философа-законодателя, всегда спокойного и размышляющего, и Шлецера, философа-критика, всегда почти резкого и недовольного.
Мне кажется, что если бы глубокость результатов Гердера, нисходящих до самого начала человечества, соединить с быстрым, огненным взглядом Шлецера и изыскательною, расторопною мудростию Миллера, тогда бы вышел такой историк, который бы мог написать всеобщую историю. Но при всем том ему бы еще много кое-чего недоставало: ему бы недоставало высокого драматического искусства, которого не видно ни у Шлецера, ни у Миллера, ни у Гердера. Я разумею однако ж под словом драматического искусства не то искусство, которое состоит в умении вести разговор, но в драматическом интересе всего творения, который сообщил бы ему неодолимую увлекательность, тот интерес, который иногда дышит в исторических отрывках Шиллера и особенно в тридцатилетней войне и которым отличается почти всякое немногосложное происшествие. Я бы к этому присоединил еще в некоторой степени занимательность рассказа Вальтера Скотта и его умение замечать самые тонкие оттенки; к этому присоединил бы шекспировское искусство развивать крупные черты характеров в тесных границах, и тогда бы, мне кажется, составился такой историк, какого требует всеобщая история. Но до того времени Миллер, Шлецер и Гердер долго останутся великими путеводителями. Они много, очень много осветили всеобщую историю, и если в нынешнее время мы имеем несколько замечательных сочинений, то этим обязаны им одним. 1832.
О малороссийских песнях
Только в последние годы, в эти времена стремления к самобытности и собственной народной поэзии, обратили на себя внимание малороссийские песни, бывшие до того скрытыми от образованного общества и державшиеся в одном народе. До того времени одна только очаровательная музыка их изредка заносилась в высший круг; слова же оставались без внимания и почти ни в ком не возбуждали любопытства. Даже музыка их не появлялась никогда вполне. Бездарный композитор безжалостно разрывал ее и клеил в свое бесчувственное, деревянное создание. [5] Но лучшие песни и голоса слышали только одни украинские степи: только там, под сенью низеньких глиняных хат, увенчанных шелковицами и черешнями, при блеске утра, полудня и вечера, при лимонной желтизне падающих колосьев пшеницы, они раздаются, прерываемые одними степными чайками, вереницами жаворонков и стенящими иволгами.
Я не распространяюсь о важности народных песен. Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была деятельна, разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтического, и он при всей многосторонности ее не получил высшей цивилизации, то весь пыл, всё сильное, юное бытие его выливается в народных песнях. Они — надгробный памятник былого, более нежели надгробный памятник: камень с красноречивым рельефом, с историческою надписью — ничто против этой живой, говорящей, звучащей о прошедшем летописи. В этом отношении песни для Малороссии — всё: и поэзия, и история, и отцовская могила. Кто не проникнул в них глубоко, тот ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей части России. Историк не должен искать в них показания дня и числа битвы или точного объяснения места, верной реляции: в этом отношении немногие песни помогут ему. Но когда он захочет узнать верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий, веселий изображаемого народа, когда захочет выпытать дух минувшего века, общий характер всего целого и порознь каждого частного, тогда он будет удовлетворен вполне; история народа разоблачится перед ним в ясном величии.