Очерки (1884 - 1885 гг)
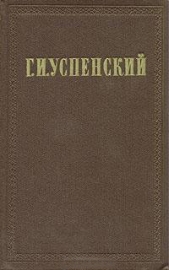
Очерки (1884 - 1885 гг) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ощущая до полной ясности силу этого гнета и степень отвращения, испытываемого не мною, конечно, одним к угнетающей, а главное, как бы обязательной для всех и вся узости и низменности, не только в общественных, но, опять-таки, главное, прямо в личных требованиях, в личной строгости к самому себе, я, однако, долгое время упорно напрягал свое воображение, чтобы олицетворить сложность моих дурных ощущений в каком-либо живом, видимом и осязаемом типе, найти виновника, распространяющего в живом людском обществе запах холодного трупа. Кто же это такой мог быть, вот хоть бы среди всех этих разных сортов людей, которые собрались сюда лечиться? От кого, от какого типа, от какого образа человеческого с полстаканом № 17 в руках несет этим мертвенным запахом, заставляющим одновременно сознавать, что "иначе и не может быть" и что в то же время чувствительность вашего носа оскорбляется не во-время и не у места?
Не знаю, правильно ли было течение моих мыслей в весьма продолжительном и напряженном разыскании "виноватого", только в конце концов я, кажется, нашел "что-то", если не вполне достоверное, то во всяком случае несомненно приближающееся к истине. Сужу об относительной достоверности моих соображений по тому многочисленному количеству современных явлений, которые вдруг стали мне понятны, когда я невольно остановился мыслью на этом "виноватом" и не мог не почувствовать, что этот "виноватый" есть именно он, "новорожденный российский буржуй", продукт, взросший на банковых дрожжах, на усовершенствованных способах европейского кредита, так широко разросшегося на российской почве в последние двадцать, двадцать пять лет и призвавшего к пользованию благами цивилизации массы людей, у которых даже и потребностей-то в этих благах не существовало.
Слову "буржуй" я решительно не придаю значения, свойственного слову буржуа или "бюргер"; если же я и заимствую это слово из какой-то повести Тургенева для определения того нелепого явления, о котором говорю, то именно потому, что явление нелепо, как и самое слово; есть в этом явлении, как и в слове, нечто совершенно понятное, действительно буржуазное, дающее право слову "буржуй" походить на слово буржуа, — именно низменность нравственных побуждений, но есть, кроме того, и еще нечто совершенно нелепое и притом "наше", родное, что заставляет исковеркать понятное слово "буржуа" в непонятное и бессмысленное "буржуй", отдающее, как видите, чем-то нелепым и в то же время чем-то "нашим", родным.
Наш "буржуй" и европейский "буржуа", имея, повидимому, некоторое внешнее сходство, во внутренней своей сущности не имеют почти ничего общего. Помилуйте! Возьмите вот хоть бы эту толстую колбасу с языком и с фисташками — один из бесчисленных продуктов умственной деятельности подлинной европейской буржуазии — и подумайте, какие усилия должна была сделать колбасная мысль колбасного европейского мыслителя для того, чтобы первобытная форма колбасы (образчиком которой, я думаю, можно считать колбасу малороссийскую) достигла удивительного совершенства форм колбасы современной? Не подлежит никакому сомнению, что колбасная мысль должна была хоть и медленно, но беспрерывно работать над усовершенствованием малейших деталей, из которых, наконец, создалась как современная колбаса, так и все колбасное дело во всех своих разветвлениях и подробностях. Не сразу создались начинки с языком и фисташками; не сразу создались начинки с чесноком и луком; не сразу выработались кожа, облекающая колбасу, размеры — длина, толщина; не сразу выработался колбасный запах, потому что изучение вкуса носов ничуть не легче изучения вкуса языков и ртов. А манера отрезать колбасу, то грубо — для какой-нибудь горничной, то нежно и кротко — для нежной и кроткой дамы, то, наконец, соблазнительно — для гвардейского офицера? А манера завернуть в бумагу какую-нибудь чудовищную оглоблю с чесноком, завернуть "двумя пальчиками" и так изящно, как будто это не оглобля, а венок для невесты? А подать к самому носу покупателя окорок с таким жестом, что у покупателя защемит сердце и что он, желая купить два фунта, почувствует себя в невозможности не сказать: "Заверните весь!.. Нет, дайте еще… другой"? Сообразите, сочтите все эти тонкости, всю эту неустанную, непрерывную работу колбасной мысли, и вы не можете не быть убежденными в том, что личная жизнь европейского буржуа всегда была наполнена какою-нибудь идеей, что "личность", как и "идея", руководившая ею, росла, совершенствовалась и развивалась.
Но это еще не все. Почему фисташки попали в свиное мясо? Потому, что Фридрих Великий любил, во-первых, фисташки и, во-вторых, — колбасу; но оба эти предмета существовали бы и до сих пор в полнейшем отчуждении друг от друга, если бы колбасник Пфуль, тенденциознейший поклонник монарха, пожираемый чувством преданности и не имея возможности выразить ее иначе, как в колбасе, не напряг всей своей умственной деятельности на изобретение комбинаций приятных для великого человека продуктов в создании одного, нового продукта, немыслимого для колбасника иначе, как в форме колбасы. Пфуль достигает своей цели, конечно, после многих лет тяжкого опыта, и, таким образом, его личная колбасная мысль не была исключительно личною, узко-эгоистическою, но примыкала и к общему ходу отечественной истории, соприкасалась с жизнью великих деятелей страны, и Пфуль, а затем потомки Пфуля, говоря о фисташковой начинке, могут говорить также и о Фридрихе Великом, не выходя из узкого круга своей буржуазной жизни и специальности.
Но и это еще не все. Пфуль вследствие известных исторических обстоятельств дошел до мысли водворить фисташку на свинине; но почему вот этот нынешний знаменитый Шнапс делает колбаски почти по первобытному способу, не заботясь об изяществе формы и стараясь достигнуть только того, чтобы большая, толстая колбаса продавалась по дешевой цене? А потому, что Шнапс ищет популярности в массах, в пролетариате, потому что он — социалист, радикал, и именно в целях общественной реформы создает и начинку и форму колбас такие, какие соответствуют его убеждениям и могут способствовать осуществлению этих убеждений в общественном деле.
Сообразив все это, то есть, что взятый нами наудачу маленький типик европейского буржуа не только так или иначе упражняет свою умственную деятельность, но что эта хотя бы и капельная умственная деятельность в лице Пфуля примыкает даже к отечественной истории прошлого, а в лице Шнапса не чуждается фантазировать и о будущем, — зная и припомнив все это, читатель, надеюсь, поймет, что Пфуль и Шнапс, потрудившись и для себя, и для прошлого и хлопоча о будущем, имеют полное право, заканчивать свой день десятками двумя-тремя не совсем доброкачественных сигар. Правда, противным дымом этих сигар и скверным запахом пивных бочек пропахла и прокоптилась вся вселенная во всех углах, но что Пфуль и Шнапс не "добрые буржуа" — этого сказать невозможно.
Пьет, и не то что пьет, а, говоря собственными словами нашего буржуя, жрет он и пиво, и шампанское и "душит водку", и квасом от всего этого пойла отпивается, и потом опять жрет, что попадется под руку на заставленном бутылками столе трактирного кабинета. И не до десятого часа, как Пфуль и Шнапс" сидит он за питейным столом, а сидит, бесконечно, после того как трактирные лакеи измучаются почти до потери сознания, когда разъедутся по домам даже ночные извозчики, пьет, когда уже звонят к заутрени, народ идет на работу, да и окончив, наконец, это нескончаемое питье в большом и шикарном ресторане, едет куда-то, едет туда, где уже заперто, умоляет отворить, а когда не отворят, лезет в извозчичий трактир, просит сделать пирог с яйцами, требует папирос в три копейки десяток после великолепных сигар, которые остались в нумере роскошного ресторана, воткнутые в ликер, в шоколад, расплющенные о зеркальное стекло. Наш буржуй ни перед чем не останавливается по части пользования продуктами цивилизации и куда как превосходит в этом отношении скромное сосание пива и скверных сигар, которые позволяет себе европейский буржуа, но европейский буржуа имеет право на пиво и сигару, а наш буржуй этого-то права и не имеет. Ни малейшей личной мысли, ни малейшего личного участия в приобретении права пользоваться дарами цивилизации наш буржуй не истратил даже и на две копейки серебром; никогда личная "выдумка", личная работа мысли, имевшие целью хотя бы только личное благосостояние, не были свойственны ему в размерах, даже более ничтожных сравнительно с размерами умственной работы немецкого колбасника; никакого исторического прошлого, которое есть у колбасника, и никакого будущего, о котором колбасник позволяет себе фантазировать, никогда не было у нашего буржуа и, вероятно, не будет. Он появился вдруг, неожиданно, как неожиданно, точно с неба свалился, появился неведомо откуда широчайший кредит; банки промышленные, земельные, городские, общественные, концессии и т. д., — все это в огромнейших размерах ввалилось в общество и, как магнит притягивает одинаково и ключ, и иголку, и ножик, и перо, притянуло к себе и купца, и чиновника, и помещика, и инженера, и офицера и создало совершенно новое сословие, стоящее вне всяких определенных трудом или общественным положением установившихся сословий, — сословие людей с кучей денег в руках, с кучей денег не заработанных, не "нажитых", не имевших, в огромном количестве случаев, даже плана истратить эти деньги. Какой-нибудь ннженерик, инженерные предания которого не простирались далее возможности приворовывать по зернышку шоссейную щебенку; какой-нибудь помещик, возлагавший все свои надежды единственно на троюродную тетку и ее скорую смерть; какой-нибудь купчишка, не возлагавший ровно никаких надежд и полагавший только, что он рожден на свет именно только для того, чтобы играть в шашки около своей лавчонки с хомутами, — сегодня, вдруг, ни с того, ни с сего, оказались заваленными чуть не по шею всевозможными кредитами, кучами денег, такими кучами, которые не только устраняют мысли о щебенке, тоску о долголетии тетки или терпеливое сидение около лавки с хомутами, но прямо становят на высоту, с которой и инженер, и помещик, и купец даже самих-то себя, вчерашних купцов, помещиков и инженеров, различить не могут, не могут узнать: "Я ли, мол, это, Ванька Хрюшкин?"





















