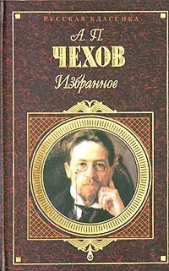Цвет и крест

Цвет и крест читать книгу онлайн
Издание состоит из трех частей:
1) Два наброска начала неосуществленной повести «Цвет и крест». Расположенные в хронологическом порядке очерки и рассказы, созданные Пришвиным в 1917–1918 гг. и составившие основу задуманной Пришвиным в 1918 г. книги.
2) Художественные произведения 1917–1923 гг., непосредственно примыкающие по своему содержанию к предыдущей части, а также ряд повестей и рассказов 1910-х гг., не включавшихся в собрания сочинений советского времени.
3) Малоизвестные ранние публицистические произведения, в том числе никогда не переиздававшиеся газетные публикации периода Первой мировой войны, а также очерки 1922–1924 гг., когда после нескольких лет молчания произошло новое вступление Пришвина в литературу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы, интеллигенты, в отношении к отечеству были похожи на тех младенцев, которым не удалось пожить на белом свете: которых мать приспала – присыпуши, которых удавила – удавуши, которых утопила – заливуши. В молитвах нашего народа за родителей, родственников и всех православных христиан часто упоминаются эти заливуши, удавуши и присыпуши. Есть трогательные сказания об этих нераскрытых душах, как их, тоскующих по своей матери-земле, мучат черти, всюду в омуте и вертепе посылают на побегушки, заставляют считать свое золото.
Но вот в Большом Верховном Совете пересмотрели все ценности, освободили присыпушей от власти чертей и сделали князьями родной земли.
Но они мать свою не могут узнать и помнят одно, что мать их задавила.
Барабан бьет пустую трель:
– Отечество в опасности, отечество гибнет, отечество, кажется, уже и погибло.
Бедные присыпуши, удавуши и заливуши, не Россия, не отечество наше погибает, а мы с вами, незаконные дети ее, на один миг, получив воплощение, возвращаемся снова в свое призрачное состояние.
Всюду на улицах из уст черного люда вы слышите, как говорят о первом нашем интеллигенте, получившем воплощение в государственном бытии:
– Керенский – жид!
Не думайте, что это случайно и просто, Нет, это наша грубая мать, которую не хотим мы сделать своим отечеством, это спящая дебелая баба поворачивается на боку своем и душит дитя свое.
Хрустят косточки!
Земля и власть
Самосуд или протокольчик
От родных из деревни я получил письмо: «Милый хозяин! жить здесь без тебя становится жутко. Рубят последние саженные деревья в лесу. Начинают сад. Станешь останавливать, – „Не подходи, – кричат, – это все наше!“ Тащат все, сдирают с крыши железо. Милиция каждый день пьяная. Самогон стал дешевый – по два рубля за бутылку».
Мой хутор вместе с неудобной землей занимает тридцать одну десятину. Земля, купленная дедом моим не дворянином. Сад и парк, насажен моей покойной матерью, которая пользовалась большим уважением крестьян. Я устроил восьмиполье с клевером, имея в виду и цели показательного участка. Весной после восстания я первый растолковал в деревне значение переворота и первый подал мысль учреждения совета крестьянских депутатов. После всего этого наши крестьяне в один голос говорят:
– Михал Михалыч не буржуй.
Мало того, я предлагал крестьянам взять мой хутор в собственность с условием не делить землю по ноготку, а вести хозяйство сообща. Предложение мое не было принято, в другом месте я расскажу почему. Когда началась проповедь снимать рабочих у собственника, я признал смысл ее: земля тому, кто ее обрабатывает. Уволил рабочего, даже домашнюю прислугу, все лето пахал, косил, чистил стойла сам своими руками. Крестьяне не знают, сколько из-за этого я потерял, оторванный от настоящего своего заработка. Но и все-таки каждый из них в отдельности наверно теперь скажет:
– Михал Михалыч не буржуй!
После всего этого я спрашиваю, почему меня разоряют и кто разоряет, и это я спрашиваю с целью выяснить вопрос, как нужно бороться с анархией.
Жизнь моя на хуторе не была работой в толстовском духе: работая, Толстой был анархистом, а я, работая, боролся с анархией. Ночь я иногда проводил на карауле, с дубинкой в руке ловил воров, загонял лошадей. Труд мой только давал мне право на борьбу, а уважение создавала борьба при помощи дубинки. Пока я не работал, все мои просьбы о защите сельского схода не имели успеха. Если я сам являюсь на сход, мне льстят и лгут в глаза, ссылаются на ребятишек: это, мол, ребятишки. Так, я вспоминаю тяжелую сцену. Однажды добился у схода не травить мой клевер и на другой же день ловлю на нем лошадь с мальчиком:
– Тебе кто велел?
– Татка.
Веду по деревне к татке. Спрашиваю отца, правда ли он велел. Отец, конечно, отказывается.
– Тогда, – говорю, – разреши мне ему уши надрать.
– Дери!
Беру мальчика за ухо и ясно вижу, что он не виноват, а виновен отец. Ему стыдно, глаза потупил, а мать шепчет мальчику:
– Ничего, ничего, потерпи!
Так бывает с постановлением схода, если я лично являюсь. Если же я посылаю работника, он приносит мне как подарок матерное слово.
Но вот, я начинаю работать, теперь все видят, какой я. И я, будучи весь день на поле, вижу всех воров. Теперь я в новом положении, посылаю своего мальчика просить сход за меня заступиться.
– Воров, – отвечают, – лови и крой дубинкой!
Много раз повторили серьезно, сочувственно:
– Крой дубинкой, крой дубинкой!
С дубинкой в руке я ночую и, когда подходит вор с топором, я крою его со всего маху дубинкой и веду на сход избитого. Я приходил раньше на сход, имея за собой голубое небо и проповедь братства и равенства. Теперь за мною ночь и какая-то красная безумная радость пожара: я нахожусь внутри земной мужицкой стихии. Сход очень доволен, я получаю все права. Милиционер, такой же мужик, как и все, подходит ко мне, победителю, и говорит:
– Как желаете, Михал Михалыч, хотите протокольчик составлю, хотите самосуд.
– На первый раз, – отвечаю, – прощаю. – Как угодно, а то мне ничего: самосуд или протокольчик, по вашему желанию.
С этого времени всюду ко мне уважение. Без всякого протокольчика своим личным самосудом я назначаю штраф за потравы, за теленка полтинник, за корову рубль, за лошадь три рубля. И деньги мне покорно несут, и никто, ни одна душа вокруг не понимает, что это победа переживается мной как великое мое поражение.
Я приходил к ним в начале революции и приносил им большую радость о земле и воле, как союзе всех трудящихся земледельцев. За мною было голубое небо.
Вот среди летней великой смуты я приношу им листок с другим содержанием – о том, что смертная казнь восстанавливается, и что же в ответ?
– Слава тебе, Господи!
Не какие-нибудь арендаторы, лавочники и всякие деревенские буржуи, а самые обыкновенные малоземельные крестьяне говорят:
– Слава тебе, Господи!
Им кажется это победой власти, а мне кажется великим последним поражением.
Мы совершенно не понимаем друг друга.
Ну и что же, скажете вы, какой тут вывод можно сделать применительно к нынешнему положению, оправдаются ли надежды правительства на передачу власти войсковым организациям?
Отвечу на это, что дело не в переделках. Смеялись у нас: «Переделали полицию на милицию, а толку все нет». Милиция пробовала у нас сама переделаться на войско. В критический момент, после большой драки, вызван был отряд солдат, которые для наведения порядка поселились в одной покинутой усадьбе. На некоторое время водворился порядок, но потом эти новые солдаты сами стали ходить на улицу, «брататься», все пошло по-старому, и власть их испарилась.
Урядник и земские были властью извне, а теперь мы признали власть изнутри (самоуправление), и внутри-то, оказывается, и нет этой власти, внутри нас она, оказывается, не живет.
Так повсюду на Руси бывает с монастырями, издали, из-за многих сотен верст приходят в монастырь богомольцы и хорошо молятся, и находят себе утешение, и даже исцеление. Но люди, живущие вблизи монастырей, обыкновенно не исцеляются и глубоко презирают распутных монахов.
Вот почему теперь многие простодушные люди и ждут германца-избавителя. Это ждут далекую постороннюю власть, это совершается новое призвание варягов.
Предлагают еще один способ вызвать власть внутри: передать землю крестьянам, это будто бы поставить их на ноги. Ничего не могу про это сказать, потому что наблюдал за это время жизнь России только в одной ее точке. В этой точке земля, говоря по правде, перешла почти вся крестьянам, и все ее поделили. Если и остались какие имения нетронутыми, то мысленно они уже поделены между соседними деревнями. Я не предвижу какого-нибудь переворота в душе крестьянина, если эти последние имения будут разделены.
В моем летнем одиночестве часто мне казалось, что если бы все кишащие в городе политические агитаторы явились в деревню с какой-нибудь выработанной программой устройства самого производства хозяйства, то все бы сложилось иначе. Об этих моих думах я расскажу в другой раз, а теперь пока скажу, что общий путь нашего дальнейшего бега ясен становится и яснеет день ото дня.