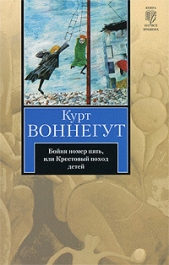Вся жизнь плюс еще два часа

Вся жизнь плюс еще два часа читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Завтра буду в Ленинграде. Я заставляю себя ни о чем не думать, насылаю слепоту и немоту, но не выдерживаю, начинаю бормотать, разговариваю с Леонидом Петровичем: я тоже люблю электрички, едешь себе и едешь тысячу километров в сторону юга... Но я-то северная и люблю север, северные лесочки. "Идемте, покажу вам лесок, вы такого еще не видели". Он скажет: "Глупости, я видел все". Я скажу: "Я знаю, что вы видели все, но все-таки..." - "Это? Лесок? Какой же это лесок? - скажет он. - Что это за размер? Даже видно шоссе, даже видно, как идут машины. Это не лесок". "Но это лесок, - скажу я. - Он находится на расстоянии шестидесяти километров от Ленинграда, я вам его покажу".
Я прекращаю борьбу, просто лежу на спине и жду, когда наступит утро.
Поезд приходит в Ленинград днем. Я выхожу на ленинградский перрон и останавливаюсь. На этом перроне всегда стоял папа, когда я откуда-нибудь приезжала, встречал меня.
Смотрел в свои большие очки, рассеянно-ласково улыбался, а когда видел меня, распрямлял плечи и выставлял грудь вперед. Я так ясно помню это движение. Возвращаясь откуда-нибудь, я должна была увидеть, что он не чувствует себя старым. Он не был старым никогда.
И я ему говорила то же самое.
- Ты на машине? - спрашивала я его.
- Конечно, - отвечал он, - как раз только что вышла из ремонта. Как угадали для тебя. Покрасили. Не узнать - красавица!
У него был старый "газик". Утепленный, с печкой. Не знаю, что это была за печка. Папа уверял, что тепло, как в "Победе", и спасает его старые кости, - иногда он притворялся старым.
- Прокати мою дочку с ветерком, - говорил папа шоферу Виктору, красивому парню, которого все время приходилось выручать. То у него брата сажали в тюрьму, то жена попадала в больницу, обварившись кипятком, то самого Виктора надо было вызволять из милиции, куда он попал за драку.
- В праздничек, в праздничек, - объяснял он, глядя на папу обожающими нахальными глазами.
И с квартирой его надо было выручать, не говоря уже о бесконечных столкновениях с гаишниками. Где бы он ни ехал, находилось место, где он сбавлял скорость и объяснял:
- Вот тута. Тута он меня задержал, мент. Придрался, что я без номера ехал.
- Вот тута, Мария, - показывал мне Виктор, - на углу Кировского и Максима Горького, на прошлой неделе мы чуть-чуть не... Целы остались, не знаю как. А женщина с нами ехала, инспектор, в больницу попала. Когда я затормозил, ваш папа смеется: "Слезай, приехали". Но белый был.
- Виктор - водитель прекрасный, - говорил папа, - хотя лихач. Тут была бы неминуемая авария, если бы не он. У него быстрая реакция.
Теперь меня никто не встречал. На площади у стоянки такси была длинная очередь, и я в нее встала.
Странно ехать по Невскому - знакомы парадные, окна, вывески, даже фотографии, выставленные в витринах фотоателье. Незнакомы лишь люди, идущие по улице. Раньше казалось, что знакомы. Все из твоей школы, из твоего дома, с твоей улицы, из университета, из Публичной библиотеки, из филармонии. А сейчас кажется, никто не учится в университете, не сидит в Публичной библиотеке до закрытия.
Сейчас самое главное - сохранить юмор. Отнестись с полным юмором ко всем воспоминаниям, ко всем мелким фактам того тоже довольно мелкого факта, что ты здесь когда-то существовала.
Скоро начнется кусок нашей улицы, от площади до дома, где я часто встречала отца. Он приходил домой обедать, пешком от площади в тех случаях, когда его персональная машина находилась в ремонте, а она часто находилась в ремонте.
Он шел по улице, немного горбясь, с каким-нибудь кульком в руках, с газетой в кармане своего немодного пальто. Увидев меня, останавливался, распрямлялся моментально этим особым, усталым и молодцеватым движением и спрашивал, кто ему звонил, куда я иду, не опаздываю ли я. Я отвечала достаточно небрежно и нетерпеливо. Я его любила, но иногда отвечала по-хамски. Он удовлетворялся любым моим ответом, скрывая и недовольство, и тревогу, и все то, что испытывает отец по отношению к взрослой дочери. Казалось, его беспокоило только одно - чтобы я не опоздала.
Он говорил:
- Ну беги. Не опоздай.
По утрам он приходил ко мне в комнату рано: в семь он уезжал на работу - и спрашивал, не опоздаю ли я.
Он говорил:
- Не хочу, чтобы ты опаздывала.
А я никуда не опаздывала.
Он никогда не сердился на меня, если ему что-нибудь не нравилось, не показывал вида. Помню, я перекрасила волосы в рыжий цвет, сделала себе несколько нижних юбок по тогдашней последней моде и купила лиловую пелерину. Отец увидел мой наряд, засмеялся, спросил своим ласковым и насмешливым голосом:
- Ты, оказывается, стиляга?
Тогда "стиляга" было новым словом. Я уже забросила эту нищенскую, лиловую пелерину, вернула волосы к натуральному цвету, прекратила все поиски на этом пути, а он, приходя с работы, все спрашивал: "Где моя дочь-стиляга?" Его голос слышу я и до сих пор, красивый, низкий, добрый голос, и, наверно, буду слышать всегда.
Вот по этой улице он ходил, мимо этих висячих часов и темных подворотен много лет подряд, почти всю жизнь, за исключением двух войн.
Улица, лестница. Звучит слабый, давно испорченный, ненадежный звонок. У него у одного такой звук. Вот мама, отворившая дверь, она тоже непрочна и ненадежна, потерялась среди высоких стен, окон и мебели. Ей бы надо отсюда уехать куда-нибудь, где все пониже, и поменьше, и посветлее. Обязательно надо уехать.
- Мамочка, - говорю я, - это я.
К счастью, и она, поплакав, умеет смеяться. Через два часа она уже говорит, что я должна делать, куда пойти, кому позвонить и что сказать. Нет, я неправа, в ней есть прочность, хотя на вид она не богатырь. Она весит сорок один килограмм и носит туфли номер тридцать три. Как говорил один мой школьный товарищ, такая мама - это несерьезно.
Мою маму не беспокоит, что я не замужем, ее не волнует мое пока еще действительно неплохое здоровье и не особенно интересует мой так называемый быт. Она всегда хотела одного: чтобы я в черном костюме и белой кофточке стояла на кафедре и читала лекции студентам. К этому она вела меня всю жизнь и делала все что могла для этого. Я пробовала увлечь ее романтикой лаборатории. Она соглашалась из вежливости - это тоже интересно. И я всегда чувствую себя немного виноватой за то, что не исполнились ее мечты.
- Мамочка, - говорю я, - мне предлагают курс лекций в нашем пединституте. Соглашаться?
- Конечно! - живо отвечает она. - Ничего нет благородней педагогической деятельности.
"Что бы ни было, - выражает ее маленькое, измученное, табачно-смуглое лицо, - я останусь при своем мнении. Вы меня не переубедите".
Недаром она часто начинает разговор с этих слов: "Вы меня не переубедите..."
Вечером я звоню своему старому другу. Он из тех, кто выше всего на свете ценит школьную дружбу, для кого "наши" - это навсегда те, кто пачкал руки одним куском мела у одной доски.
- Машка, ты? Здорово, Машка. Откуда ты? Когда приехала? Надолго? Я думал, насовсем. Теперь пусть другие едут вкалывают. А девчонки из нашего класса пусть живут в Ленинграде. Хочешь, я тебе скажу по секрету, Машенька? Ты сидишь или стоишь? Я, Машка, месяц провалялся с инфарктом, с почти инфарктом, который хуже даже, чем инфаркт. Ни пить, ни курить, ни за девочками - ничего. Ну как, Маша, понравился тебе мой секрет?
- Не может быть, - отвечаю я. Он всегда любил приврать. - Наверно, был легкий спазм, а вы тут уже решили, что инфаркт.
- Правильно, месяц лежал с легким спазмом. Ты все знаешь. А ни пить, ни курить, ни...
- Не верю. С чего это в таком возрасте у такого здорового...
- Япоха такая. Темпы-то ноне какие. Не такие, как зарплата.
Я все равно не верила.
- Надо только трое суток не выходить из цеха, выкурить полную норму сигарет, сварить кофе для бодрости, и если потом развязался шнурок на ботинке и ты нагнулся завязать и... "Ай, яй, яй, как нехорошо, молодой человек!.." И тебя увозит "скорая".