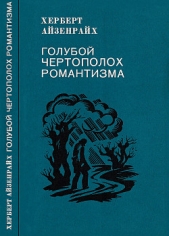Чертополох

Чертополох читать книгу онлайн
Аркадий Александрович Селиванов (1876–1929) — русский поэт, прозаик, критик.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
XI
Истомила Аксинью дорога вчерашняя. С трудом отстояла она в храме долгую службу, но, когда ударили к вечерне, застыдилась баба остаться в гостинице, взяла Егорку и поплелась вослед за богомольцами. Но не удалось уже ей пробраться в храм, постояла в притворе, помолилась недолго и надумала грешное: пойти в рощу, в сторонку от глаз людских, выбрать место тенистое и прилечь там подремать с часок.
Идет Егорка с матерью, маленький такой, в гости к соснам великанам. Знает их Егорка и не боится ни капельки. В таком же лесу дремучем стоит их деревня и целыми днями пропадают в нем ребята. То по грибы, то по ягоды. Бродят под деревьями словно овцы пестрые, пока не проголодаются.
Далеко зашла Аксинья, чуть видна колокольня монастырская. Прилегла под елкой тенистой, вытянула ноги усталые, зевнула и наказала Егорке:
— Поиграй тут… Вишь, цветики белые, нарви их покуда. Да не ходи далеко… Волки.
Постоял Егорка с минутку, подумал о чем-то, поглядел на мать, на цветы… Чуть не каждый день пугают волком, а до сих пор еще видать его не приходилось. В волка из ружья стреляют… Можно тоже и саблей зарубить, вот если такой, как у вчерашнего офицера.
На лужайку спрыгнула кокетливая трясогузка, покачала длинным хвостом и снова улетела.
Егорка стал собирать цветы. Обошел всю лужайку, нарвал уже порядочный пучок, но поглядел на них и бросил. Что в них хорошего? Все, как один, белые… Егорке больше нравится, когда цветы пестрые, красные, желтые, вот, как у них на горке. Хорошо тоже, когда одуванчики пушистые стоят, как турки. Хватишь его с размаху палкой и голова долой, точно саблей срубил. Снова вспомнилась вчерашняя сабля, длинная, блестит…
А с сабли Егоркины мысли перескочили на посох отца игумена. Тоже — штука!.. Ну, посох-то он и сам добудет, если захочет. Стоит только поискать в лесу, мало ли всяких палок?
Егорка поправил шапку на голове и пошел на поиски.
XII
Стемнело в келье у старца Виталия. Не видны уже слова священные и сливаются буквы. Закрыл он книгу и вышел из кельи.
Весенняя ночка лампады свои зажигала. Бежал гонцом ее прохладный ветерок, шептался с елками кудрявыми, встретил старца Виталия и поиграл его седыми волосами. К звездам далеким тянулись вершины деревьев и старцевы думы беспечальные и в ответ улыбались им звезды молчаливые.
Бредет тихонько по темному лесу старец Виталий и вдруг слышит: плачет кто-то негромко и жалобно, хнычет в кустах. Перекрестился Виталий, раздвинул кусты и вгляделся в сумрак старыми глазами. Стоит под елкой мальчуган в большой шапке и трет кулаками глаза. Метнулся было в сторону, как заяц испуганный, но увидел старца и уставился на него.
Улыбнулся Виталий кротко и ласково и поманил его рукой. Малыш шагнул навстречу и снова захныкал.
Подошел к нему старец, погладил по мокрой от слез щеке, молча заглянул в карие глазенки. Вот, такой же был и его Ванюшка, когда ушла жена Виталия. Где он теперь? Если и жив еще, то должно быть, тоже старик уже… Ничего не известно Виталию. Семнадцатый год пошел, как умерла сестра Степанида. От нее только и слыхивал изредка старец о семье своей.
Молча глядят друг на друга Егорка и старец Виталий. Повстречались под старыми соснами утро и вечер, закат человеческой жизни с восходом. И тянутся нити незримые, крепкие вечные нити от старого сердца усталого к чистому сердцу ребенка.
Егорка отер слезы, забыл все свои недавние страхи и взял за руку старца Виталия.
— Дедушка, пойдем к мамке.
И тихо ответил Виталий:
— Пойдем.
И пошли они рядом по узкой тропинке лесной.
Крепко держался за руку старца заблудившийся Егорка и все заглядывал из-под шапки на звезды высокие и на дедушкино лицо, освещенное тихой улыбкой.
Так и во двор монастырский вошли они вместе, рука с рукой. Лишь у храма разлучила их Аксинья. Кинулась она с плачем к Егорке и спряталась на ее груди русая Егоркина голова.
А старец Виталий понес к отцу игумену грех свой… А после, за три долгие года впервые, поднялся на клирос церковный и долго в ту ночь читал он страсти Христовы, голосом тихим и в начале слегка хриповатым. Но, с каждым словом о муках последних страдавшей Любви, крепчал его голос и прежняя кроткая ласка звучала в нем, красота умиленного сердца.
И снова, как прежде, проникал он в людские печальные души, трогал в них струны забытые, согревал упованием новым. Умилением сладким вздымались сермяжные груди и крестили их мозолистая руки.
И плакала тихо Аксинья в углу, прижимая к себе Егорку. Слезами радости, легкими, светлыми… Слезами, роднящими с небом далеким… Собирают их ангелы в урны алмазные и к престолу Творца несут эти слезы, как самый бесценный и чистый дар печальной земли. Ибо не часто горит для людей солнце радости. Ибо редкая гостья она и так мало ее на темной земле.
1913 г.
Ближе к звездам
Не работалось. Мысль, как усталая, измученная кляча, едва тянулась, каждую минуту грозя остановиться.
Даже перо сегодня, более, чем обыкновенно, цеплялось за бумагу и притягивало все невидимые, досадные пылинки. Папироса ежеминутно гасла, спички ломались…
Пролинг в сущности догадывался о причине: всему виной — какой-то дурацкий «Петроний», тиснувший вчера в «Вечерних Отголосках» свою злую рецензию.
«Нет еще стиля, но уже громадные претензии»… «Вымученные сюжеты, и вечная подражательность в обработке»… «Дешевая философия»…
Да. Все это черным по белому в отзыве «Петрония» о рассказах Ольгина, он же Пролинг.
Бедный автор бросает перо, закрывает глаза и рисует себе наружность своего критика.
— Должно быть, какая-нибудь жирная свинья и даже не в ермолке… Сам, конечно, бездарен, а вот пристроился к газете и мнит себя арбитром искусства… Небойсь и место тепленькое… В редакции берет авансы, а с нашего брата взятки… Знаем мы этих «художественных» критиков…
Пролинг дернул стулом, встал, заходил по комнате и даже замурлыкал вполголоса чьи-то вспомнившиеся куплетики:
После куплетов стало как будто бы легче. Пролинг спрятал в стол свою рукопись, оделся и вышел на улицу.
Осенний петербургский полдень встретил Пролинга мелким дождем и порывистым ветром. Пришлось поднять воротник пальто и нахлобучить шляпу. Бесцельная прогулка по Невскому сегодня не улыбалась, и хотя Пролингу есть еще не хотелось, он все же, спрятав руки в карманы, зашагал в кухмистерскую.
О-хо-хо… Пролинг уже давно работает, но ему не везет. Стоит только пристроиться к какому-нибудь журнальчику, или газете, вперед уже известно: издание прогорит, или закроется «по независящим причинам»…
О чем только он ни писал? Собачьи выставки и малороссийские спектакли, чрезвычайные посольства и дефекты водопровода… Пробовал пускаться на хитрости: свои собственные оригинальные стихи выдавал за переводы из Сюлли-Прюдома и Бодлера. В провинции, случалось, печатали, но известно — какой там гонорар… Да и тот высылали неаккуратно. Переменил несколько псевдонимов… Долгие ночи корпел над идейной четырехактной драмой… Эх!.. А вот обедать ходит в греческую кухмистерскую, да и то не каждый день…
Пролинг повертывался спиной к ветру и сквозь стиснутые зубы ворчал по адресу сытого критика:
— Нет, поглядел бы я на тебя в моей шкуре. Какой бы у тебя стиль оказался? Легко вам на трюфелях-то с ананасами… Эстеты!..
Было так приятно после дождя и пронизывающего ветра окунуться в спертый, дымный воздух кухмистерской.
В низеньком полутемном подвальчике тепло, пахло подгорелым жиром и кислой капустой. Большинство посетителей пили чай и над маленькими столиками колыхался теплый пар. Механическое пианино, исполнявшее «Ой-ру», оглушительно трещало кастаньетами. За буфетом стоял хозяин, обрусевший грек, перетирал стаканы и звенел чайными ложками.