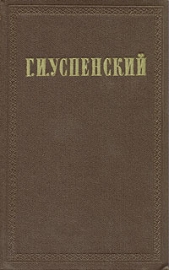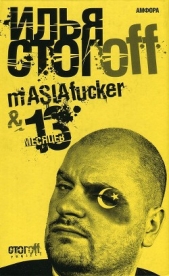Через пень-колоду
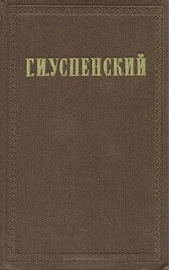
Через пень-колоду читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ты что это, чертовка, опять мучить пришла? Тремя горшками уж норовишь все нутро выволочь оттуда? Я тебя, псовка экая!
И он оглушил Афимью таким универсальным ударом, что и она, и горшки, и какие-то банки, и пакля — все это, разлетелось и исчезло неведомо куда, но где-то тут же на дворе.
— Я тебе дам, чортова кукла! — не имея возможности остановить своего гнева и хватая в руки первую попавшуюся жердь, вопиял он и, может быть, убил бы Афимью, но прибежавший на крик Афанасий силою утащил Ивана в избу.
И здесь, не имея сил успокоить своего волнения, Иван тяжело дышал и трясся всем телом, пока не услышал, что с улицы доносится визгливый голос очувствовавшейся, наконец, Афимьи.
— Погоди, чорт этакой!.. Будешь ты меня помнить!.. Помни же!
Эти слова, пропущенные мимо ушей в момент раздражения на Афимью, получили для всей семьи Фирсановых, не больше как через день после этого эпизода, совершенно неожиданное и грозное значение. На другой день еле живую Прасковью отвезли в больницу, где сказали, что положение ее опасно, и тотчас для всего дома стало ясно, что Михайло должен жениться. — Этого брака требовало решительно все, что только; жило и было в доме: упавший ухват, пустой рукомойник, опрокинутое ведро, нетопленая печь, и куры, и бараны, и коровы, и люди — все требовало брака Михайлы, брака немедленного, и вот тут-то вся семья Фирсановых припомнила слова старухи: «Помни же!» и содрогнулась… Ведь что может натворить злая баба с людьми, со скотиной, с молодыми!
Михайло, этот уже, казалось, вполне полированный человек, испугался этих слов: «Помни же!» гораздо больше, чем даже и старики, испуганные ими решительно не на шутку. Незадолго перед болезнью матери он побранился с «девушкой Аннушкой», жившей около Афимьи, которая попеняла ему, что он стал шляться к новой гулящей, к Катьке, которую только что пустил в ход один кулачишка, получивший от земства подряд на содержание лошадей. «Ну, помни!» — сказала ему тогда и Аннушка, погрозив кулаком, но тогда он не обратил на это внимания: он тогда стоял совершенно на другой линии — на такой линии, где все было для него совершенно ясно. «Помни! Чего тут помнить? Приду как-нибудь, прогуляю трешку — вот те и все!» Тогда, два-три дня назад, миросозерцание его было совершенно определенно, он не верил «предрассудкам», был вполне уверен, что раз у человека деньги в кармане, так тут сам чорт ничего; не поделает, да и чорта-то никакого нет. Но вот сегодня, через три-четыре дня, когда его как громом поразила необходимость бросить, расстаться с пинжаковым направлением мыслей, покинуть линию и вполне примкнуть к крестьянству, от которого он уже отвык, отстал, которое забыл, — его охватил страх. Он возвращался в крестьянство с такой кучей грехов на душе и на теле, с таким изобилием прав у Катек и Аннушек делать ему зло в его хозяйстве, в скотине, в поле, в конюшне, что слово: «Помни!» приняло совершенно потрясающий смысл… Афимья, Аннушка, обе обиженные, обе нечистые (он теперь должен был думать по-чистому), они могут, бог знает, что сделать.
Но главный источник его темного и в то же время безграничного испуга, поселившегося в самой глубине его души с того момента, как только он убедился, что жениться «надо», что хозяйство без этого брака должно развалиться, — была та женщина, на которой он должен был жениться.
Возвращенный мыслями к «крестьянству», Михаила тотчас же знал, которая именно из деревенских девиц должна быть его женой. Кроме «Варьки», ему нельзя было брать за себя никакой иной девицы, и вот почему, с болезнью Прасковьи и с его женитьбой (которая неизбежна) народу в доме, на которого должна работать будущая новая баба, должно прибавиться; одних мужиков теперь будет уж не трое, а четверо, да пятая, если выживет, будет хворая Прасковья; такая огромная семья должна иметь в центре своем — куда уж веселую, а просто только железную женщину, и притом самое главное, женщину, которая, войдя в дом, сразу бы прониклась интересами всего живущего в этом доме, только в этом доме, которая бы свою курицу могла отличить среди тысячи других точь-в-точь таких же кур, — словом, такую женщину, жизненный интерес которой весь бы состоял только в совокупности интересов всего хозяйства, у которой бы не было сердца для себя, но сердце, и мысль, и ум которой могли бы действовать только под влиянием куриных, коровьих, телячьих, овечьих, бараньих, гусиных, мужичьих и других желаний, печалей, нужд, случайностей, требований. Нужна была такая женщина, которая не могла бы жить на свете, была бы, с позволения сказать, совершеннейшей дубиной, если бы не была именно только и исключительно центром инстинктов зоологической жизни всего живущего в доме и на дворе. Не нахожу возможности иначе определить коренные свойства того типа женщины, который нужен был не Михайле собственно, а всему дому без исключения; Михайло же — это собственно только причина, вследствие которой женщина такого типа, теперь, за два-три дня до свадьбы, быть может, еще и не помышляющая о замужестве и не знающая еще, кто ее муж, жених, должна после свадьбы навеки пригвоздиться к одному месту и не иметь даже тени мысли о том, что есть на свете где-то какие-то другие места, кроме того, на котором она толчется.
Наседку нужно накрывать решетом, чтобы она не видала света белого по крайней мере день, чтобы заставить ее сесть на яйца; иных, особенно непокорных, кормят хлебом, пропитанным водкой, и пьяную сажают в лукошко, но раз она села, она уж не может встать. Она не разбирает — куриное или гусиное, или утиное яйцо лежит под ней; но у нее с этим яйцом образовалась уже какая-то неразрывная связь, благодаря которой она не может не измаивать себя до того, что «просидит» до голого тела. Вчера еще эта самая курица не обращала на снесенное ею яйцо ни малейшего внимания; она снесла его, где пришлось: на чердаке, под печкой, в дровах, и ушла слушать, как петух поет: «Скажите ей». А сегодня, после того как ее насильно усадили на то же самое яйцо, после того как ее лукошком прихлопнули, опоили водкой, чтобы она одурела, она хоть и слышит, что вышел в свет новый романс г. Пригожего «Под моим она окошком» и т. д., но уж не может встать с места, а отчего? — и сама не знает.
И когда мысли Михаилы сосредоточились на крестьянстве, которое он представлял себе не иначе, как в самом благообразнейшем виде (ведь он из хорошего дома, да, наконец, что же может быть ужаснее неблагообразного крестьянства?), ему стало жутко. Ведь то, что называется «крестьянством», то есть весь строй трудовой крестьянской жизни, ведь он весь находится в полной зависимости от тайны, от этого неведомого, что даже курицу пригвождает к яйцу. Как бы ни была курица премудра, она будет сидеть «до голого тела», неведомо зачем и отчего. И это неведомое проникает весь строй жизни, начиная с земли, с зерна и дождя, и ветра, выражается в успехе, в неуспехе, в болезни людей и животных. Во глубине всего этого лежит не своевольная мысль, выдумка, а никому неведомая тайна, среди которой можно жить только при безукоризненности инстинкта, чутья. Мужик и баба, составляющие центр крестьянского дома, центр всей этой тайны, тогда только могут благообразно существовать, то есть без страха жить неизвестно для какой цели, когда в глубине их взаимных, интимных отношений, помимо всяких человеческих соображений и побуждений, безукоризненна та необъяснимая, неведомая никому из них зоологическая связь, прочность которой только чувствуется инстинктивно, а непрочность расшатывает весь строй, неизвестно для чего существующий обиход. Но вот такого-то безукоризненного, зоологического инстинкта Михайло уже не ощущал в себе в той мере, в какой он должен бы был ощущать его как крестьянин. Варька — существо, взятое прямо от земли, «вынутая» из самой сердцевины тайн крестьянства, даже и понятия еще не имеет о том, что такое мужик, хотя и видит их перед глазами всю жизнь; она даже и мысли не имела никогда о том, что с нею будет, когда она выйдет замуж, как и курица понятия не имеет о том; что с нею сделается, когда ее посадят в лукошко. Эта зоологическая струна даже и не звучала в ней никогда, несмотря на то, что она кровь с молоком; она и «стыдиться»-то начинает только в мясоед, потому что ей известно, что по мясоедам ихнюю сестру мужики лукошком-то накрывают, а в пост так даже ей нисколько не стыдно никого, потому — что ж по постам стыдиться? Ежели стыдиться, так надо в мясоед, а не в пост. А вот в Михайле благодаря тому, что он долго жил на другой линии, уже нет этой-то самой важной зоологической безукоризненности, и вот отчего он, зная, что ему непременно надо брать Варьку, уже боится этой Варьки.