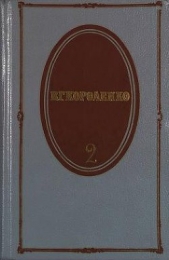Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика
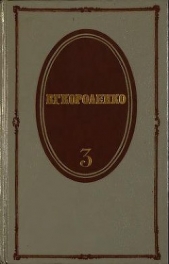
Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика читать книгу онлайн
В том включены рассказы 1903–1915 гг. «С двух сторон», «Братья Мендель» и др., публицистические работы «Несколько мыслей о национализме», «Легенда о царе и декабристе», «Земли! Земли!», «Письма к Луначарскому» и др., большинство из которых впервые публикуются в советское время в составе собрания сочинений, а также статьи и воспоминания о писателях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Профессор Изборский был очень худощав, с тонким, выразительным лицом и прекрасными, большими серыми глазами. Они постоянно лучились каким-то особенным, подвижным, перебегающим блеском. И в них рядом с мыслью светилась привлекательная, почти детская наивность.
Когда я вошел в музей, профессора Изборского окружала кучка студентов. Изборский был высок, и его глаза то и дело сверкали над головами молодежи. Рядом с ним стоял Крестовоздвиженский, и они о чем-то спорили. Студент нападал. Профессор защищался. Студенты, по крайней мере те, кто вмешивался изредка в спор, были на стороне Крестовоздвиженского. Я не сразу вслушался, что говорил Крестовоздвиженский, и стал рассматривать таблицы в ожидании предстоявшей лекции.
— Да… профессор, мы тоже ценим науку, — говорил Крестовоздвиженский своим грубовато-искренним голосом, — но мы не забываем, что в то время, как интеллигенция красуется на солнце, там, где-нибудь в глубине шахт, роются люди… Вот именно, как говорит Некрасов: предоставив почтительно нам погружаться в искусства, в науки…
Изборский сделал порывистое движение, как будто хотел возразить, но вдруг спохватился, взглянул на часы и сказал:
— Господа… Пора начинать лекцию…
Действительно, небольшая аудитория в музее уже была полна. Изборский с внешней стороны не был хорошим лектором. Порой он заикался, подыскивал слова. Но даже в эти минуты его наивные глаза сверкали таким внутренним интересом к предмету, что внимание аудитории не ослабевало. Когда же Изборский касался предметов, ему особенно интересных, его речь становилась красивой и даже плавной. Он находил обороты и образы, которые двумя-тремя чертами связывали специальный предмет с областью широких общих идей…
Главный предмет, которым Изборский занимался специально, была роль хлорофилла в жизни растения. И теперь на столе перед ним стоял небольшой прибор, с несколькими трубками, расположенными по радиусам. В центре этого прибора профессор поместил спрепарированную часть листа. Видны были органы дыхания, устьица и зерна хлорофилла — этой зеленой крови растений. Этот прибор и опыты, которые Изборскому удалось произвести с его помощью, доставили ему почетную известность в научном мире. В поле зрения, доступная вооруженному взгляду, раскрылась таинственная работа солнечной энергии в зеленом зернышке хлорофилла.
В этот день Изборский был особенно в ударе. Шаг за шагом, ясно, отчетливо, осязательно он изобразил все фазы мирового процесса, в котором совершается взаимодействие животного и растительного царств. И вдруг, без эффекта, естественно и просто он перешел к предмету недавнего спора со студентами… Зернышко хлорофилла совершает великую работу… Оно в листе. Лист красуется и трепещет на воздухе, залитый потоками света, в то время когда корни роются глубоко в темных глубинах земли. Но роль листа не украшение, не простая эстетика растения. В нем начало всей экономии живой природы. Это он ловит солнечную энергию, он распределяет ее от верхушечной почки до концов корневых мочек… И когда он красуется в лучах солнца, когда он трепещет под дыханием ветра, в это самое время он работает в великой мастерской, где энергия солнечного луча как бы перековывается в первичную энергию жизни…
И, озаряя аудиторию своими одушевленными и наивными глазами, — он закончил сравнением Крылова в басне «Листья и корни». Да, люди науки могут без оговорки принять это ироническое сравнение. Если они листва народа, то мы видим, какова действительная роль этой листвы. Общественные формы эволюционируют. Просвещение перестанет когда-нибудь быть привилегией. Но — каковы бы ни были эти новые формы — знание, наука, искусство, основные задачи интеллигенции останутся всегда важнейшим из жизненных процессов отдельного человека и всей нации…
Когда он смолк, некоторое время в аудитории стояла глубокая тишина. И вдруг вся она задрожала от бурных рукоплесканий. Молодежь восторженно приветствовала своего оппонента…
Изборский уехал в Москву, где у него была лекция в университете. В музее долго еще обсуждалась его лекция, а я уходил с нее с смутными ощущениями. «Да, — думалось мне, — это очень интересно: и лекция, и профессор… Но… что это вносит в мой спор с жизнью?.. Он начинается как раз там, где предмет Изборского останавливается… Жизнь становится противна именно там, где начинается животное…»
Но все же передо мной в тяжелые минуты вставали глаза Изборского, глубокие, умные и детски наивные… Да, он много думал не над одними специальными вопросами. Глаза мудреца и ребенка… Но если они могут так ясно смотреть на мир, то это оттого, что он не «увидел» того, что я увидел. Увидеть — значит не только отразить в уме известный зрительный образ и найти для него название. Это значит пустить его так, как я его пустил в свою душу…
И много раз после этого я хотел подойти к Изборскому и сказать ему все то, что, мне казалось, я знаю… Но странно: каждый раз мне становилось отчего-то совестно и стыдно…
Был и еще человек, которого я не решался затронуть своим анализом.
Это была девушка с Волги…
Я просто обходил ее в своих мыслях, но ее образ стоял в моей душе где-то в стороне, так что я чувствовал его присутствие. Я только боялся взглянуть на него ближе, хотя и знал, что когда-нибудь это придется сделать… И тогда, быть может, серое пятно расползется и займет уже всю мою душу без остатка.
— Тебе письмо, — сказал как-то Тит. — Но не в академии. Придется сходить в отделение…
Я не пошел… Одним вечером, когда я опять сидел в беседке платформы, пассажирский поезд, шедший из Москвы, стал замедлять ход. Опять замелькали освещенные окна, послышалось жужжание замкнутой вагонной жизни. Но когда поезд тронулся, на платформе осталась одинокая женская фигура…
Во мне что-то дрогнуло. Если это она, то ее появление застает меня врасплох… На нее упала полоса света из окна последнего вагона. Я узнал ее: да, это была девушка с Волги.
По-видимому, она ждала, что ее встретят, и оглядывалась по сторонам. Поезд таял в темноте, красная звездочка в конце его становилась все меньше. Кругом было пусто. А я сидел в глубине беседки, боясь пошевелиться.
Девушка положила небольшой чемодан на платформу и быстро прошла через полотно дороги на противоположный откос, к будке сторожа. Я на мгновение потерял ее из вида, и затем ее тонкая фигура показалась в приотворенной двери.
— Здравствуй, Григорьевна, — крикнула она в сторожку. — Жива, что ли?
— Ась?.. Кто там? — отозвалась сторожиха.
— Я это, знакомая… Не признала, что ль?
Дверь закрылась, но через минуту в ней опять появились две женские фигуры.
— И то, не признала, — говорила сторожиха приветливо. — Ишь, высока была, еще выросла будто… Что ты поздно, и одна-одинешенька?.. Ведь темно.
— Ничего, Григорьевна. Я думала, человек тут один выйдет. Писала я ему… Ну, что у вас нового? Ванюшка как? Жив?
— Чего ему делается? Хошь бы прибрал господь… А новости у нас плохие… Этто человек под поезд бросился… Неприятности… Стрелочник, мол, не доглядел. А как тут доглядишь… Вот тут и еще один все шатается… На грех мастера нет… Что с ним сделаешь? Не прогонишь…
— Да, да, я знаю! Мне писали… Ну, Григорьевна, прощай… Я пойду…
— Да как же ты это, милая?.. Чемодан еще с тобой… Да темень, да жуть…
— Да, жутковато, — сказала девушка, оглядываясь, — особенно после того, что ты напомнила…
— Ах, милая… Поверишь, и мне-то все чудится… А то обожди!.. Семеныч хоть бы до ворот провел, а там у тебя в академии дружков много… Доведут и до Выселок.
— Нет, ничего, пойду! Меня никто не обидит. Я удачливая, Григорьевна, меня никогда не обижают.
— Ну иди со Христом. И верно: за што тебя, экую, обидеть…
Эти знакомые мне слова («я удачливая»), сопровождаемые знакомым смехом, я услышал уже с вершины холмика. Девушка, быстро подняв небольшой чемоданчик, бодро прошла мимо беседки и пошла по дорожке. Я прижался в темный угол.
Зачем я сделал это — не знаю. Мне показалось, что бессознательное ожидание чего-то, которое я здесь смутно испытывал, было именно ожидание этой минуты. И еще мне казалось, что я знал, что она приедет сегодня. Письмо, которое я не потрудился взять из отделения… во всякое другое время я догадался бы, что это от нее… В нем, конечно, сообщалось об ее приезде, и теперь, оглядываясь на пустой платформе, она, может быть… ждала именно меня…