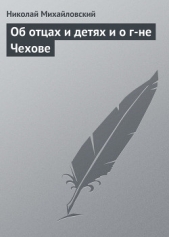О Чехове

О Чехове читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
{101}
***
Началась Японская война. В письмах она у него не отразилась.
15 февраля он уехал опять в Ялту, нарушая запрет Остроумова.
Перед отъездом был с женой в Царицыне, смотрел дачу, чтобы в будущем году там поселиться на всю зиму.
В Ялте он застал брата Александра с семьей. Его племянник, будущий артист, вспоминает это время. Антон Павлович был с ним нежен, подарил "Каштанку" и "Белолобого", дарил мелкие вещицы со своего стола, когда он тихо сидел в его кабинете.
Александр Павлович все время был "трезв, добр, интересен, вообще утешает меня своим поведением", пишет он своей жене.
***
Весной Ольга Леонардовна переменила в Москве квартиру, сняла в Леонтьевском переулке, в доме был лифт.
В эту весну 13 апреля он и написал Амфитеатрову из Ялты о своем рассказе "Чернозем", опубликованном в сборнике "Знания".
3 мая он в Москве.
Сообщает матери "всю дорогу нездоровилось", но в Москве "полегчало".
Рассказывают, что он по приезде в Москву, на другой день, поехал в Сандуновские бани и простудился. В письме к Куприну он сообщает от 5 мая:
"Я приехал в Москву, нездоров!" А 10 мая Гольцеву: ..."нездоров, лежу в постели, каждый день ходит доктор..."
В письме к сестре от 21 мая сообщает, что "третьего дня ни с того ни с сего меня хватил плеврит...
Как {102} бы то ни было на 2 июня заказаны билеты в Шварцвальд..."
Меня всегда мучает вопрос, почему его повезли за границу в таком состоянии. Сам он Телешову сказал: "еду умирать". Значит, понимал свое положение. У меня иногда мелькает мысль, что, может быть, он не хотел, чтобы его семья присутствовала при его смерти, хотел избавить всех своих от тяжелых впечатлений, а потому не возражал. Конечно, порой он надеялся, как большинство чахоточных, что поправится. Замечательно, что сестре он стал из Москвы писать нежнее.
Он и мне в последнем письме, которое не попало в собрание его писем, писал в середине июня, что "чувствую себя недурно, заказал себе белый костюм..."
Четвертого июля 1904 года я поехал верхом в село на почту, взял там газеты и письма и завернул к кузнецу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, - и вдруг точно ледяная бритва полоснула по сердцу.
***
Смерть его ускорила простуда. После приезда в Москву из Ялты он пошел в баню и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано: встретился в предбаннике с Сергеенко и бежал от него, от его навязчивости, болтливости...
Это тот самый Сергеенко, который много лет надоедал Толстому ("Как живет и работает Толстой") и которого Чехов, за его худобу и длинный рост, неизменный черный костюм и черные волосы, называл так:
- Погребальные дроги стоймя.
{103}
IV
Художественный театр отметил пятидесятилетие со дня рождения Антона Павловича литературным утренником, на котором выступал я со своими воспоминаниями. Это было 17 января 1910 года.
Театр был переполнен. В литерной ложе с правой стороны сидели родные Чехова: мать, сестра, Иван Павлович с семьей, вероятно, и другие братья, не помню.
Мое выступление вызвало настоящий восторг, потому что я, читая наши разговоры с Антон Павловичем, его слова передавал его голосом, его интонациями, что произвело потрясающее впечатление на семью: мать и сестра плакали.
Через несколько дней ко мне приезжали Станиславский с Немировичем и предлагали поступить в их труппу.
Вскоре после этого утренника мы были приглашены к Марье Павловне, где были и Чеховы, живущие в Москве, а среди них и сын Александра Павловича, Михаил, молодой ученик школы Художественного театра, поразивший нас талантливостью жестов: они с сыном Ивана Павловича, студентом Володей, прощаясь в прихожей, что-то манипулировали со шляпами так забавно, что мы из столовой, глядя на них, очень смеялись.
Кто-то сказал:
- Это совершенно по-чеховски! Новое поколение.
{104} А через несколько лет, я видел Мишу в Первой студии художественного театра в пьесе, переделанной из рассказа Диккенса "Сверчок на печи", и его игра меня взволновала до слез.
В 1915 году, 14 декабря видел его второй раз в "Потопе"; играл тоже с большим талантом.
Евгения Яковлевна за пять лет очень состарилась. Мы обрадовались друг другу, как родные. Она всегда меня любила. Стала бранить Ялту, с восторгом вспоминать Московскую губернию:
- Здесь лучше, леса, можно по грибы ходить, их тут много, а там что... одно море...
И до чего она была очаровательна в своей наивности.
***
Ездил я и на открытие "Комнаты имени Антона Павловича Чехова" для туберкулезного литератора в санатории по Николаевской дороге, кажется, вблизи станции Крюкова, забыл какого доктора.
Ехал я туда в вагоне с Иваном Павловичем, его женой, милой женщиной, и сыном.
Иван Павлович напоминал покойного брата одним жестом. Он был очень хозяйственный человек, сейчас раскрыл погребец, угостил водочкой и какой-то закуской, и мы незаметно доехали до санатории, где был "пир-горой".
"Литературное ханжество - самое скверное ханжество", - сказал мне Чехов (писал он об этом и Суворину).
{105}
***
Отлично писал Горькому: "У вас слишком много определений... понятно, когда я пишу: "Человек сел на траву..." Наоборот, неудобопонятно, если я пишу:
"Высокий, узкогрудый среднего роста человек с рыжеватой бородкой сел на зеленую, еще не измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь..."
Чехов говорил:
"Писателю надо непременно в себе выработать зоркого, неугомонного наблюдателя... Настолько, понимаете, выработать, чтоб это вошло прямо в привычку... сделалось как бы второй натурой".
***
У Чехова каждый год менялось лицо.
Благородство Чехова - цветы, животные, благородство людских поступков.
***
Со всеми он был одинаков, какого бы ранга человек ни был.
{106}
***
Всеволод Гаршин, которого, несмотря на краткое знакомство, он успел полюбить всей душой, весной 1888 года кончает самоубийством.
***
Монгольское у матери и у Николая, и у самого Чехова.
Портреты деда, бабки, отца, дяди - мужики. Женщины широкоскулы, рты без губ, - монголки. Дед, бабка, мать, отец, дядя Чехова - все мужики и все широкоскулые. Просто страшно смотреть - особенно проживши больше 30 лет в Европе. Нижняя челюсть дяди. Грубость поразительная. Отец приличнее, но нижняя челюсть почти, как у дяди.
Ехал из Ельца. Купил на станции "Пестрые рассказы" Чехова в 1887 году, читал, не отрываясь.
***
Однажды он сказал (по своему обыкновению, внезапно):
- Знаете, какая раз была история со мной? И, посмотрев некоторое время в лицо мне через плечо, принялся хохотать:
- Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице московского Благородного собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южин-Сумбатов, {107} держит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, говорит ему: "Да, пойми же ты, что ты теперь первый писатель в России!"... И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: "И он..."
***
В его записной книжке есть кое-что, что я слышал от него самого. Он, например, не раз спрашивал меня (каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смеясь от всей души) :
- Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую, всегда думаешь, что у нее под корсажем жабры?
Не раз говорил:
- В природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей наоборот: из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница...
- Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости...