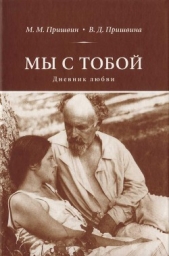Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком

Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком читать книгу онлайн
Во первый том восьмитомного Собрания сочинений М. М. Пришвина помещены его ранние произведения, в том числе такие известные, как «В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком» и другие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шарик вкусен. В этом – прогресс, но вкусивший его пастух почему-то совершает грехопадение.
Есть ли на свете быт более безобразный, чем этих джетаков, первых земледельцев в краю. Голое начало оседлой жизни при взгляде на них кажется отвратительным, и невольно приходит в голову: а что, если в самом-то начале все так оседали? И сам собой напрашивается общий закон переселения: раз начало оседлой правильной и хорошей жизни выходит не из пустыни, раз природа всячески борется с оседлостью, то те будут лучше здесь жить, кто дальше в глубину истории своего народа может отнести это начало. И потому-то лучшие переселенцы – немцы. Но зачем попадут сюда они, в эту киргизскую Аркадию, Каркаралинский уезд?
Первые земледельцы *
Авель стерег стада,
Каин был земледелец.
Поздней осенью, перед самой зимой, степь опять зеленеет. Наверху журавлиный крик: птицы улетают на юг. Внизу блеют козлы и бараны: кочевники едут на зимнее стойбище.
Ветер, наш третий неизменный товарищ, отбегает за гору и встречает нас на той стороне: катит перекати-поле, черное, круглое, жутко одинокое. Белые юрты движутся с летних пастбищ на осенние, с осенних к черным землянкам, похожим на степные могилы, – зимним стойбищам.
Теперь, осенью, кажется, будто в степи два игрока забавляются игрой в черные и белые кости и игрок с белыми все проигрывает и проигрывает. Настанет время: во всей степи не будет белых юрт, а только могилы и зимовки. Мало, совсем мало осталось здесь стариков, которые, помня счастливый золотой век, остаются зимовать в юртах. «Не хотим, – говорят они, – живые лезть в могилу».
Мы едем будто в стране Авраама: на тысячи верст тут живут одни пастухи. Мы у источника красивых и горьких иллюзий.
Вот бронзовый пастух, весь в лохмотьях, едет шагом верхом на лошади и напевает. А бараны под песню пощипывают на ходу низкую, желтую, сухую траву.
– Жирейте, мои бараны, и потягивайтесь, – поет пастух.
– Мы жиреем и потягиваемся, – отвечают бараны.
– Пеняйте на себя, если не разжиреете, – напевает пастух.
– Будем пенять на себя, – отвечают бараны, конечно, голосом того же пастуха.
Позвякивают струны домбры. Тихо ступает лошадь под песню о добром пастухе и счастливых баранах. Кто за кем идет: пастух за баранами или бараны за пастухом, – не понять.
– Где аул Джонжи? – спрашиваем мы пастуха.
– На осеннем пастбище, – отвечает он и указывает своим бронзовым подбородком. – Там, за сопкой Маира.
Это не близко. Киргиз указывает подбородком в такую даль, что сарт, по степной поговорке, может ехать два дня.
– Чу! – подгоняем мы лошадей на гору. Взбираемся вверх, спускаемся вниз в долину, опять в гору, опять в долину, а сопка Маира все далеко.
Степные горы похожи на волны, и совсем будто море, но только ветер напрасно свистит – волны не катятся. Перекати-поле взлетает вверх и снова летит вниз. Начинается буран.
С горы нам видно, как на той стороне широкой долины пылит верблюд, а за ним несется пыль, будто огромный желтый кометный хвост. Нам не миновать его, заранее закрываемся халатами и гоним лошадей. Душит. Спешим скорее обогнать верблюда.
– Кто едет? – спрашиваем седока.
Едет сарт с шерстью. Он нездешний и не знает аулов. А впереди новый кометный хвост, и опять мы обгоняем и спрашиваем:
– Где аул?
– Далеко, – отвечают, – на осеннем пастбище. Мамырхан перекочевал, Ауспан перекочевал, нет близко аулов, зимовок и даже могил.
Над долиной, где мы ехали, спустились тучи, как темные волосы; вечерело; впереди горела степь, будто сотни волков, сверкая глазами, шли в одну линию нам навстречу.
Мы стали искать для ночлега горную трещину и вдруг увидали спокойный огонь. Кто-то жил внутри этого хаоса, прислонив к горе землянку. Перед входом лежали бык и верблюд. Внутри этой кротовины на земляном полу, возле пылающих шариков конского навоза, сидели мужчины и женщины, такие старые, будто они тут были со времени изгнания из рая первых людей. Наш случайный спутник, еврей-скототорговец, увидев их, стал молиться и восхвалять бога.
– Все правда в Талмуде, – бормотал старик, – и нет ни одного слова неверного: и степь, и горы, и огонек, и люди, как Адам и Ева.
Первые люди поставили перед нами чашку с зернами жаренной на сале пшеницы.
– Земледельцы!
– Джетаки, – сказали спутники, – лежат, не кочуют.
И стали под свист бурана рассказывать, как в степи разрывается обычный круг кочевого года и по ту сторону общей жизни остаются эти первые земледельцы, джетаки…
– Все как в Талмуде, – повторил еврей.
В степи поэт начинает весну. В темной кротовине, сидя на корточках у костра, он поет, что слышит движение творческих сил в земле. Тают ледяные сосульки на окне, и свет проникает в землянку. Видны месяц, звезды и все светила небесные. И так исполняется библейское: «Да будет свет!»
Шумят весенние потоки: суша и вода отделяются. Птицы летят, неустанно разговаривая: стрепет звенит крылом, копчик и пустельга дрожат в воздухе. Суслики поют у нор. Каждая сопочка зеленая стоит. В землянке после поэта будто бы первая видит весну мышь. Она взбирается на горб верблюда и пищит, что видит весну.
И выходит человек, и видит, как при входе в рай, что все хорошо. Говорят, будто тут ему богомолка с ветки зеленой спаржи мохнатой лапкой указывает путь на летнее пастбище.
Караван идет окруженный животными. Впереди на лучшем аргамаке едет самая красивая девушка аула в алой одежде, в шапочке, отороченной соболем и украшенной совиными перьями. На стоянке она вдруг стегает своего коня и мчится вся в красном по красным цветам, как огненный пал по суходолу. Джигиты хотят догнать ее и коснуться рукой ее груди. Но девушка извивается, как ящерица, хлещет джигитов нагайкой прямо в лицо и скачет дальше, на край степи.
Кровь бежит по лицам. Нелегко догнать красавицу Только один, самый ловкий, достигает своего, и девушка едет с ним покорная, как после ночи бессильная луна. Тогда даже подвижник пустыни верблюд сходит с ума. И вереницей тянутся в святые горы бесплодные женщины ночевать там и просить бога послать им этой весной деток. Великий Худай всем посылает, и все радуются и множатся. Проходит весна, лето, и опять от аула к аулу, от зимовки к зимовке, от могилы к могиле катится, как черный грех, перекати-поле.
– Знает великий Худай свои дела, – говорят старики земледельцы, потерявшие пастбище.
И рассказывают эти старики о страшном годе Зайца, когда они лишились скота, и не могли уж больше весной выехать на летнее пастбище, и остались в своей зимовке на вечные времена в поте лица обрабатывать землю.
В год Зайца великий Худай послал джут: степь заледенела, скот, добывая из-подо льда траву, резал ноги, худел без пищи и падал. Буран подхватывал животных и гнал, как перекати-поле, из края в край. После бури при солнечном свете из трещин гор выходили волки, слетались вороны, стервятники и сороки. Вся степь была покрыта трупами. Был вой, и карканье, и стрекотанье, и последний ужасный рев.
Великий Худай не совсем погубил бедных людей, приютивших нас во время бурана, оставил им одного быка и верблюда, чтобы в поте лица обрабатывать землю и сеять «бидой» (пшеницу).
Так рассказывали нам в землянке под свист бурана люди, знающие степь, и старики, испытавшие на себе год Зайца.
– Как в Талмуде, – повторял еврей, – там нет ни одного слова неверного.
Пищали мыши, жевал бык, сопел верблюд, – все живое, что осталось с этими людьми по изгнании их из рая.
И трудно было представить рай нам, утомленным дорогой, изгнанным очень давно, никогда и не видавшим летнего пастбища кочевников. И нельзя было представить себе землю, где можно бы быть просто счастливым и не вспомнить: «В вас самих царство божие», а не в земле.