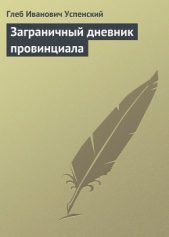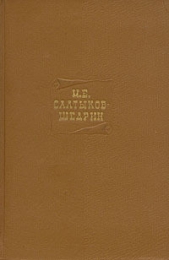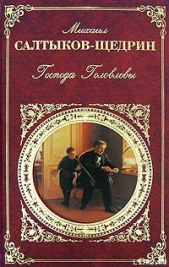Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала
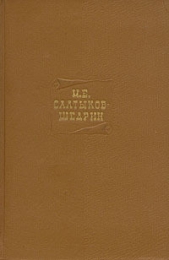
Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В десятый том входит одна из наиболее известных книг Салтыкова — «Господа ташкентцы», которая возникла на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века и, как всегда у этого писателя, была нерасторжимо связана с тогдашней русской действительностью. Также в том входит «Дневник провинциала в Петербурге».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— По крайней мере, позвольте узнать, когда можно надеяться на это «окончательное излечение»? Вот, например, я. Я не понимаю даже, каким образом я здесь очутился. Кто в этом деле судья?
— Я, — ответил он с такою уверенностью, что меня подрал по коже мороз. — Конечно, вас будут свидетельствовать в губернском правлении *, но так как данных, на основании которых можно было бы вывести правильное заключение насчет нормальности или ненормальности ваших умственных способностей, еще не имеется, то хотя бы вы и протестовали, вас все-таки оставят на испытании. Затем, вас месяца через два вновь освидетельствуют и вновь оставят на испытании. И так далее. Тот купец, о котором вы меня спрашивали, тоже протестовал, даже очень-очень протестовал, но это не помешало ему полгода пробыть в нашей больнице. Вообще, прежде всего, в вашем выздоровлении должен убедиться я. Покуда я не убедился, у меня в руках будет всегда очень хорошее оружие против вас — это журнал ежедневных наблюдений над вами, который составляю я и опровергнуть который вы, как человек, считающийся умственно поврежденным, не в силах. Всякий больной убежден, что он здоров, но журнал ежедневных наблюдений говорит противное. Поэтому я советовал бы вам вполне положиться на меня. Если же вы не последуете этому совету, то едва ли можно даже приблизительно предсказать, как скоро господин Дюссо будет иметь честь сервировать вам languettes de bœuf, sauce tomates… [557]
— Доктор! Я вижу перед собой двери ада!
— Отнюдь. Мы просто стоим перед дверьми номера первого, в котором помещается мой лучший пациент, господин штабс-ротмистр Поцелуев.
— Ба! Поцелуев! не пензенский ли? не сын ли корнета Петра Ивановича Поцелуева?
— Он пензенский, и, вероятно, сын того Поцелуева, которого вы знаете, потому что его зовут Иваном Петровичем.
— Ваня! да ведь это мой троюродный племянник! Неужели и он сошел с ума?
— Да, он хронический. Помешательство его самое разнообразное, но главных мотивов три. Во-первых, он полагает, что ему, не в пример другим, одному в целой армии дозволено носить выпускные воротнички; во-вторых, что он венгерский гонвед * и был командирован графом Бейстом в Мадрид, чтоб оттеснить господина Марфори * и заменить его в милостях экс-королевы Изабеллы, и в-третьих, что ему разрешено устроить международный цирк. Остальные пункты помешательства, как, например, убеждение, что королева Изабелла подает своим подданным пример грациозного исполнения качучи, или еще, что он вынужден был выехать с своим цирком из Ташкента, потому что его кобылам начали делать слишком выгодные предложения, — все это не больше как детали, которые вертятся около трех главных пунктов. Вообще, это очень добрый малый, который вполне сохранил идеалы своей прошлой жизни, разумеется, преувеличив их. Ба! да вот, кажется, и он сам возвращается с прогулки!
Действительно, в эту минуту, внизу лестницы, послышалось пение моего племянника. Сначала он пел общекавалерийский романс «La donna è mobile» * [558], но вдруг бросил его и запел:
— Mon oncle! [559] — заревел он, увидев меня.
— Ну вот, и прекрасно. Charmé de vous voir en pays de connaissance [560], — сказал доктор. — Мсьё Поцелуев! расскажите-ка вашему дядюшке, как вы ездили с поручением в Мадрид.
— Ah! mais c’est tout une histoire! [561]
— Ну да. Расскажите. Au revoir, messieurs! [562]
Сказав это, доктор удалился, оставив меня лицом к лицу с Ваней.
Передо мной стоял высокий, ширококостный, но худой и бледный юноша, в котором я с трудом узнал прежнего, столь памятного мне Ваню Поцелуева. Не более как полтора года тому назад я видел его — и какая с тех пор произошла разительная перемена! Тогда это был настоящий пензенский коренник, белый, румяный, выпеченный, с жирною, местами собравшеюся в складки грудью, с трепещущими от внутреннего ликования ляжками, с заплывшими глазами, имевшими исключительное назначение представлять собой орган зрения, с лицом, на котором, казалось, было написано: был, есть и всегда пребуду в здравом уме и твердой памяти. Вне пределов службы у него было только четыре претензии: 1) чтобы, при сгибании у локтя руки, мышцы верхней ее половины образовывали совершенно круглое и твердое, как железо, ядро; 2) чтобы за кулисами театров Буфф и Берга все кокотки понимали его как образованного молодого человека; 3) чтобы татары всех ресторанов, не беспокоя его расспросами, прямо сервировали ему тот самый ménu, который он имел обыкновение в данное время употреблять, и 4) чтобы не манкировать ни одного представления в цирке Гинне. Ко всему прочему он был равнодушен и даже не добивался чести называться «консерватором», к чему в настоящее время стремится всякая сколько-нибудь благовоспитанная лошадь. Он просто «жил» или, лучше сказать, не возбранял, чтоб жизненная сила в нем действовала…
Таким, по крайней мере, он представлялся нам, его родным, видевшим в нем гордость и утешение рода Поцелуевых. Мы знали в нем телеса («не уколупнешь!» — невольно думал всякий из нас, взирая на него), но не знали души и вряд ли даже подозревали ее существование. И вот теперь оказывается, что мы ошибались, что и у него, где-то далеко за кокардою *, помещалась душа, а в этой душе потихоньку копошилась тоненькая-тоненькая струйка того, что известно под именем сознательности. И он имел свои идеалы, и он мечтал. Мечтал об экс-королеве Изабелле, а может быть, и об экс-императрице Евгении. Мечтал о кобыле «Одалиске» и жеребце «Шамиле». Мечтал о том, что когда скончается дядя, корнет Поцелуев-второй (этот дядя без ума любил Ваню и назначил ему все свое сердобское имение), то он сейчас же обратит полученное наследство в деньги и выстроит на царицыном лугу обширнейший в мире цирк, в котором, в виде крохотных приделов, будут помещаться все прочие ныне существующие цирки. При неважности этих мечтаний, он мог бы прожить с ними всю жизнь, оставаясь в здравом уме и твердой памяти, и никакое губернское правление, конечно, не уличило бы его в противном. Но наступило время реформ и разом доконало этот мощный организм, вызвав наружу всю чушь, которая дотоле таилась на дне души. Успехи, сделанные войсками всех стран и во всех родах оружия, усовершенствования в форме воинской одежды, уяснение значения воинской корпорации и ее отношений к массе так называемых pékins [563] — все это не могло не вызвать Ваню к деятельности, не взбудоражить его умственных сил. Но так как силы эти были сами по себе не велики и сверх того были заблаговременно подточены фантастическими вожделениями несомненно глупого свойства, то результаты умственного пробуждения Вани оказались самые жалкие. Он разом открыл шлюзы, которыми дотоле сдерживались его душевные движения, и, однажды открыв их, уже не мог воспрепятствовать свободному течению той дребедени, которая и прежде в скрытом виде угнетала его.
И вот теперь Ваня стоял передо мной, неузнаваемый, обновленный. Розы и лилии исчезли с его щек; грудь впала; ляжки не трепещут; голос получил резкие, болезненно-звенящие тоны; глаза беспокойно вспыхивают, и — о, удивление! — даже кажутся выразительными.