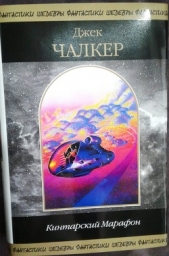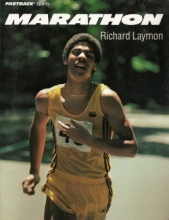Мордовский марафон
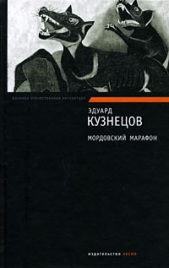
Мордовский марафон читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот уже несколько десятилетий лагерь (как мужской, так и женский) является поставщиком сексуальных извращенцев всех мастей, а такие ругательства, как "козел", "петух", "ковырялка", "кобел", давно уже вплелись в красочную гирлянду уличной матерщины. Ну, пока такими оскорблениями осыпают друг друга школьники, это еще полбеды, но, дорогой читатель, упаси вас боже обозвать "козлом" лагерника. Он тут же потребует доказательств, а за отсутствием таковых имеет право и убить: тюремный закон императивно предписывает в таком случае как минимум избиение, иначе звание "козла" считается правомерным. Для лагерника это не оскорбление, а обвинение. И дело вовсе не в каком-то особом чувстве чести, а в том, что звание "козла" влечет за собой весьма существенные житейские невзгоды. Это обвинение (как, кстати говоря, и обвинение в "стукачестве") должно быть смыто непременно кровью или, как минимум, публичной зуботычиной, иначе - падение на социальное дно. "Козел" должен жить отдельно от всех, а если и в общем бараке или камере, то где-нибудь в уголку, у параши. Его кружка-ложка помечены дыркой. Уголовный быт казуистичен и ритуализирован, в казуистике и ритуалах его претензия на бытие, значительность, неслучайность, стабильность в качестве особой социальной группы, вечной и неистребимой. "Козла", посмевшего выдать себя за простого "мужика", бьют усердно, но не до смерти, если же он "канал по первому кругу", то есть прикидывался блатным и ел-пил из одной с ворами миски-кружки, жизнь его под большим вопросом: сотрапезничество с "козлом" - пятно на воровской репутации и, не будучи смыто кровью, может самому вору стоить жизни. "Козел" - безгласное, бесправное орудие удовлетворения сексуальных потребностей, и только в эти минуты прикосновение к нему не оскверняет: днем он - пария, неприкасаемый. Особенно строго этот закон блюдется в лагерях для малолетних преступников. Жизнь "малолеток" всесторонне ритуализирована и табуирована, каждый следит за каждым, и всякое отступление от правил преследуется жесточайшим образом. Даже случайное прикосновение к "козлу" чревато взрывом массового энтузиазма - роль инквизитора, охотника, палача, могучего в праведности гнева и презрения своего, так упоительна... И в ту же ночь легион распятых и искалеченных принимает в свои ряды еще одного несчастного.
(Здесь утрачена часть текста.)
Чем занимаются во мраке взрослые люди на воле - их личное дело. На свободе гомосексуалист не обязательно подлец; в лагере он почти всегда вынужден быть "стукачом": не защищенный общеарестантской поддержкой, он, в сраме своем, беззащитен и перед начальством - угрожая ему новым сроком за гомосексуализм или разоблачением в глазах матери или жены, "педагоги" в конце концов вынуждают его к доносительству.
(Здесь утрачена часть текста.)
Уже Достоевский отмечал, что наружность обитателей "Мертвого дома" зачастую чрезвычайно безобразна. Наблюдение верное и для наших времен. Вообще, бездуховность, низменность помыслов и стиля жизни накладывают каинову печать безобразной животности на облик большинства обитателей уголовных джунглей. Верно замечено, что до какого-то времени человек живет с лицом, данным ему небесами и родителями, а потом - с тем, какое сам заслужил. Но особенно безобразны "козлы", и более всего они отталкивающе отвратительны совмещением в себе черт крайней униженности, забитости, несчастности и чрезвычайной жестокости по отношению к слабейшим, подлости, трусливой наглости. Что и зафиксировано в лагерной пословице: "Нет наглее наглого педераста". Не без исключений, конечно. Вот, например, живет в нашей зоне всесоюзно знаменитая Любка, "дама", весьма совестливая (по "козлиным" меркам, конечно), очень строго блюдущая кодекс староуголовной морали. Она громогласно обличает тайных "петухов", призывая их сбросить маску, а главное - не ходить по "кумовским"* кабинетам. О себе "она" заявляет: "Я воровская педерастка", ест из отдельной миски, никогда не пойдет, хоть убей ее, в общую камеру, время от времени подновляет выколотую под левым глазом мушку, каковой в былые времена клеймили членов козлиного клана, и с удовольствием демонстрирует любопытствующим отвислое брюхо, на котором корявыми буквами запечатлен лозунг: "Лучше умереть у красивого юноши на х-ю, чем на лесоповале". 8-го марта "она" повязывает голову цветастой косынкой и, повиснув на оконной решетке, целый день визжит бабьи частушки, а во время прогулки стыдит "политиков" за то, что они "не мужчины" и клянчит у уголовников подарки: "Что же вы, мужчины, ничего мне не дарите на мой-то праздничек?"
* "Кум" - лагерный оперативник.
Любке уже за шестьдесят. Сидит "она" безвыходно что-то лет тридцать, да до того и на Соловках сиживала, и всю Сибирь исколесила в этапных вагонах... всего лет 40-45 наберется. "Она" уже и "сама" забыла, где, сколько и за что сидела. Последний "четвертак" Любка отхватила в 1952 году за убийство начальника режима (не то капитана, не то майора): он застрелил "ее" супруга и погиб от Любкиного топора. "Ей", конечно, пришили политический террор. Начальство старается "ее" обходить, так как "дама" она нервная, истеричная, может и огреть чем ни попади, а увидев какого-нибудь чужого, случайно забредшего в наш лагерь начальника, тут же скидает портки и, нагнувшись, демонстрирует выколотые на ягодицах голубые глаза. У Любки гипертония, порок сердца да к тому же вместо нормальных рук - одни ладони (пальцы "она" отрубила, спасаясь еще в те годы от работы), и потому "она" признана нетрудоспособной. Любка так давно сидит, что лагерь окончательно утратил для "нее" значение кары, и "она" громко повествует о том, как проведет одну-единственную неделю на свободе. "Откидываюсь я, мужчины, в одна тысяча девятьсот семьдесят седьмом году 25 января, - сладким напевным голоском рассказывает "она" во время прогулки. - Сразу еду в Москву-матушку, покупаю новую малированную миску с цветочками... да... рубля за два, а то и за три... и мохнатое полотенце с красными петухами... Да... Потом весь свой капитал - у меня ведь 65 рублев на счету! - пропиваю с мужчинами... Яблочков бы не забыть, я их, почитай, годков двадцать не едала, да... и на другой день иду к этому поганому Сталину Руденке, скидаю портки и говорю...". "Кто тебя, старую дуру, к Руденке пустит!" - перебивают "ее". "Ну тогда подхожу к первому милиционеру и говорю: "Вы, жандармы, Гитлеры тухлые, а ну, сажайте меня обратно! Срать я хотела на вашу колхозную свободу!.. Только не к политическим, а к ворам... к молоденьким ворам. И - эх!" - визжит "она" разухабисто и призывно шлепает себя беспалыми ладонями по ягодицам.
(Здесь утрачена часть текста.)
Никто из новичков, особенно молодых, не застрахован от тяжкой "женской" доли. Но даже и в другие, более откровенно-ножевые времена, как бы вор ни пылал страстью к какому-нибудь смазливому "красюку", он не спешил насильничать - "законней" и безопасней принудить пассию к "добровольному" сожительству, сперва так или иначе деморализовав ее, коварно загнав в безысходный угол, где выбрать можно лишь один из двух ножей - железный или кожаный.
Профессиональные уголовники - порой проницательные сердцеведы. Они знают, как важно ошеломить жертву, вызвать у нее моральное замешательство, навязать ей чувство вины, заставить оправдываться: кто оправдывается - уже не боец, кто объясняется - наполовину побежден. Знающий правоту свою иной раз и ножа не страшится, даже толстый фраер в ночном переулке может ради имущества своего не пощадить живота своего и, обезумев от праведного гнева и страха, учудить нечто героическое. Но если правота его под вопросом, он куда смиренней. Надо заставить его оправдываться.
- Дя-я-денька, дай часы поносить, - канючит малец.
Почтенный обыватель, сперва опешив, наливается гневом:
- А ну, иди, иди отсюда, пока милицию не позвал... Ишь ты! Сопляк, а туда же - часы ему!
- Дя-я-денька... - не отстает тот, нахально цепляясь за полы пальто.
- Ах, наглец!.. Брысь!
Оборвыш шлепается на землю и ревет что есть мочи. Из ближайшей подворотни мгновенно выворачиваются двое-трое громил: