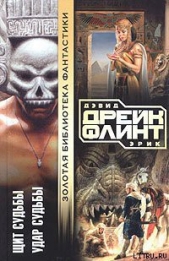Сборник рассказов

Сборник рассказов читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Анатолий Борисович подошел к окну.
"А вдруг "сбудется, сбудется", - закричалось у него в глубине. - Должно "сбыться", должно - не навсегда же таким он создался". Тихонько, растопырив ушки, Анатолий Борисович прислушался. Ничего не услышав, сел за столик и почувствовал, что вся его жизнь - как урок геометрии.
"Каждый предметик: стульчик, чернильница - далекий и как теоремка", подумал Анатолий Борисович. Все входили, уходили и были за чертой.
Вскоре Анатолий Борисович вышел. И больше уже не приходил. А через месяц следователь Дронин в деле на имя Анатолия Борисовича поставил последнюю и единственную запись: "бесследно исчез" - и захлопнул папку.
Управдом перед смертью
Управдом Дмитрий Иванович Мухеев заведовал целым скопищем домов; большинство домишек были маленькие, покосившиеся не то от страха, не то от хохота; и народу в них жило видимо-невидимо, так что было впечатление, что домишки слегка дрожали, как толстые подгнившие дубки во время приближающейся грозы. Среди них угрюмыми серыми великанами возвышались два семиэтажных дома; грязь ливнем стекала с их крыш, заливая стены и окна водянистыми, слезливыми пятнами. Серость проникала через окна в комнаты-клетушки, погружая их в сошедшее с ровных небес скудное одиночество. Народ в этих местах жил шальной и бывалый; и, несмотря на одиночество, крик здесь стоял день и ночь; сами людишки носили тут печать особой, животной индивидуальности, были тяжелые, с расплывающимся мешком вместо лица, на котором сидели, правда как ненужные наросты, два тупо блестящих выпученных глаза; были матерно-активные, деловые, как бегущие, сами не зная куда, лошади...
Вот в такой-то среде и прошла жизнь Дмитрия Ивановича, день за днем, в солнце, в криках и сжимающей сердце тишине.
По своему общему мировоззрению (а такое есть у всех людей) Митрий Иваныч был не то чтобы сознательный атеист, а скорее, как большинство, "ничевок", то есть он не имел понятия ни о самом себе, ни о том, что его ждет после смерти. Вопросительная пустота окружала его душу; пустота, о которой он не думал, но которую чувствовал; а для пустоты самым подходящим словом было "ничего".
Быстро пролетали года, и он не заметил, как ему стукнуло пятьдесят лет; детей у него не было, а единственного близкого ему человека, жену Варвару, с малолетства прозывали "шкурой" за то, что она была то непонятно нежна, то по-крысиному жестока, неизвестно почему. Нежна она была попеременно к мужу, к неестественно инфантильному, кружащемуся около помоев, забитому мальчику, к прохладной, чистой воде из колодца и к своим полным, белым грудям. Жестока же она была ко всему остальному, что вне ее.
Митрий Иваныч провел свою жизнь энергично; энергично любил жену, энергично ее разлюбил, но самое большее, что он делал, - это работал. Работать как вол, даже как раб, ему нравилось.
После каждого тяжелого рабочего дня, поздно вечером, он, распахнув крыльями руки, пританцовывал на одном месте.
Грязь сыпалась с него, как перхоть.
В каждом аккуратно сбитом сарае, в каждом гвоздочке, в каждом залатанном домике была его рука, точнее, его руководство. Но все это как-то терялось в общем гаме и переменах, и Митрий Иваныч часто думал: мое или не мое? Иной раз только что поправленная по его хозяйскому глазу крыша выглядела сурово и отчужденно, точно и не Митрий Иваныч ее поправлял.
Бывало, что и тоска нападала на него; особенно не любил он предчувствий, но предчувствий не по какому-либо поводу, а предчувствия вообще - холодного, смутного, сидящего где-то в голове, посреди мыслей; он даже дергал головой то влево, то вправо - чтобы вытряхнуться. Старушка Кузьминична - мать Варвары - называла такое предчувствие: от Господа.
"Господь-то не оставляет тебя, Митряй", - милостиво говорила она зятю.
Пить Митрий Иванович не пил; на Руси это большая редкость.
Объяснял он это так: "Серый я человек, чтобы пить. Водка ведь напиток ангельский. Ее люди чистые пьют, с детской душой. А я черненький - весь в гвоздях и в рамах перевыпачкался".
Это были самые глубокомысленные слова за всю его жизнь; вообще он больше молчал или говорил матерно-деловые, целенаправленные слова.
Так и проходила его жизнь - свет за светом, тьма за тьмой.
Смерть подошла незаметно, когда ее не ждали, как надвигается иногда из-за спины тень огромного человека.
Сколько раз, еще в детстве, он видел, как на его глазах умирали люди от этой болезни - от рака. Но ему не приходило в голову, что это его коснется. Умирали по-разному: кто проводил свои последние дни во дворе, разинув гниющий, предсмертный рот на солнышке, точно глядя на него таким образом; кто, наоборот, - в смрадной, темной комнате, на постели, закрывшись с головой одеялом, дыша своей смертью и испарениями; кто умирал тоненько, визгливо и аккуратно, даже за день до гибели прополаскивая исчезающий рот; кто - громко, скандально, швыряя на пол посуду или кусая свою тень...
И Митрий Иваныч тоже прочувствовал смерть по-своему, по-мухеевски.
Когда он совсем захирел и не на шутку перепугался, то поплелся в поликлинику, в самую обыкновенную, в районную.
Поликлиника со своими длинными одноцветными коридорами скорее напоминала казарму, но казарму особую, трупную, где маршировали и кормились одни трупы, а командовали над ними жирные, сальные и страшно похотливые существа в белых халатах.
Наплевано было везде, где только можно, и от тесноты люди чуть не садились друг на друга. Были, правда, какие-то странные тупики, где ничего не было, ни врачебных кабинетов, ни туалета; иногда только там маячили призрачные, мечтательные фигуры, почесывались.
Из кабинета в кабинет то и дело шмыгали врачи и сестры; Митрию Иванычу стало страшно, что от этих типов и от всякой аппаратуры, стоящей по углам, зависит его судьба. Он почувствовал дикую слабость, и от этой слабости он ощутил свое тело совсем детским, хрупким и призрачным, как у малолетнего ребенка; он всплакнул; сладенькая дрожь разлилась по всему телу, а сердце родное сердце - колотилось так, как будто билось высоко-высоко, у самого сознания.
Точно просящий помилования, жалко улыбаясь, он вошел в кабинет.