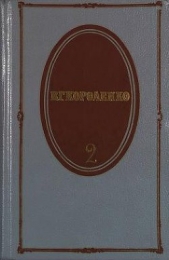Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика
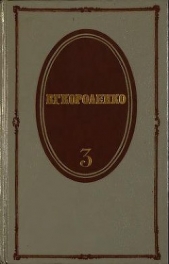
Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика читать книгу онлайн
В том включены рассказы 1903–1915 гг. «С двух сторон», «Братья Мендель» и др., публицистические работы «Несколько мыслей о национализме», «Легенда о царе и декабристе», «Земли! Земли!», «Письма к Луначарскому» и др., большинство из которых впервые публикуются в советское время в составе собрания сочинений, а также статьи и воспоминания о писателях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В 1863 году мать взяла его тоже в Петербург, где он поступил в 7-ю петербургскую гимназию. Умственные склонности мальчика определились рано. Хорошие отметки он получал за русские сочинения. Математику ненавидел, хотя она давалась ему легко, и очень любил точные науки: естествознание, ботанику, химию, физику. Это отразилось впоследствии на его литературной манере: точность наблюдения и определенность выражения мысли являются характерной чертой Гаршина-писателя. В гимназической журналистике, которая тогда процветала, уже обращали на себя внимание фельетоны Гаршина за подписью Агасфер.
Реформа Толстого, превратившая 7-ю гимназию в реальное училище, преградила Гаршину доступ в университет, и потому в 1874 году он поступил в Горный институт. Но техническая деятельность не соответствовала его склонностям, и целью своей жизни он уже сознательно ставит литературу. «Я чувствую, — писал он в 1875 году А. Я. Герду, — что только на этом поприще я буду работать изо всех сил». Литературный успех он считает вопросом жизни и смерти. «Вернуться я уже не могу. Как вечному жиду голос какой-то говорит: „Иди, иди!“ — так и мне что-то сует перо в руки и говорит: „Пиши, пиши!“» В 1876 году он уже напечатал в газете «Молва» маленький рассказ («Подлинная история Энского земского собрания» за подписью «Р. Л.») и несколько рецензий в «Новостях» о художественных выставках. Сам он, однако, не придавал никакого значения этим работам и первым настоящим литературным дебютом считал «Четыре дня».
Рассказ этот открывает серию военных рассказов Гаршина.
Как известно, в 1876 году на Балканском полуострове разыгрались крупные политические события. Сначала восстание Сербии против турецкого владычества вызвало широкое проявление славянских симпатий в России. Это был расцвет деятельности аксаковского «Славянского комитета», организовавшего широкий сбор пожертвований и отправлявшего на театр войны отряды добровольцев. До сих пор еще (и это очень странно) нет настоящей сколько-нибудь обстоятельной и беспристрастной истории этого движения, выдвинувшего вперед генерала М. Гр. Черняева, его друга полковника («сербского генерала») В. В. Комарова и целую плеяду других, менее прославившихся имен, историческая оценка которых и теперь еще — дело будущего. Одни считали генерала Черняева русским Гарибальди, другие изображали его выступление как политический фарс или трагикомедию. Несомненно одно — что в этом движении не было настоящей непосредственности и цельности. Подкупали освободительные лозунги, и сначала даже «Отечественные записки» поместили воззвание («На всемирную свечу»), в котором радикальный журнал в приподнятом тоне призывал к пожертвованиям на дело славян все слои русского народа.
«Московские ведомости» говорили о святости освободительного подвига. С другой стороны, Лев Николаевич Толстой (в «Анне Карениной») расхолаживал эти восторги, в «Голосе» Черняев был назван авантюристом, кондотьери, а через некоторое время в «Отечественных записках» появилась одна из злейших сатир Щедрина, в которой, в образе странствующего полководца Редеди, подводились итоги деятельности генералов Черняева, Комарова и Фадеева. Иллюзия единения широких слоев русского народа на почве чужой свободы, за которой, казалось, просвечивают и какие-то свои освободительные перспективы, закончилась скоро. Враждебные элементы русской жизни после освободительной войны, как и до нее, остались на прежних позициях.
Все эти противоречивые мотивы находили живые отклики в молодежи и глубоко ее волновали. Они захватили и Гаршина. В июне 1876 года он писал школьному товарищу и другу Н. С. Дрентельну.
«Пишу я теперь с отчаянием… Работа удовольствия не доставляет. Скорее какое-то желчное, злобное чувство». И затем: «За сообщение новостей из профессорского мира весьма благодарен, хотя, по правде сказать, электрофорная машина Теплова и соединение физического и химического обществ интересует меня меньше, чем то, что турки вырезали 30 тысяч стариков, женщин и ребят». «Дражайший Н. С, пиши, пожалуйста. Если бы ты знал, каково бывает у меня на душе, особенно со времени объявления войны [118]. Если я не заболею это лето, то это будет чудом».
Под влиянием этих чувств, Гаршин задумал поступить добровольцем в сербскую армию, предводимую генералом Черняевым. Это не удалось: Гаршин в то время достиг призывного возраста и, оставив университет, должен был бы отбывать воинскую повинность в России. 17 октября 1876 года турки нанесли мораво-тимок-ской армии, предводимой Черняевым, решительное поражение, и война должна была считаться конченой. Но вслед за Сербией поднялась Болгария, а затем обстоятельства вынудили Россию к вмешательству.
Теперь желание Гаршина было уже осуществимо, так как он мог поступить вольноопределяющимся в русскую действующую армию. В передовых слоях молодежи тот энтузиазм, который еще вызывался началом сербской кампании (когда генерал Черняев, как настоящий Гарибальди, чуть не прокрадывался через границу, вопреки мерам правительства), — теперь угас, а выступление официальной России вызывало двойственное отношение. Один из авторов воспоминаний о Гаршине, г. Павловский, воспроизводит спор его с каким-то молодым человеком [119]. Последний отозвался несочувственно о намерении Гаршина добровольно отправиться на театр военных действий. Его точка зрения состояла в том, что безнравственно помогать одерживать победы, которыми воспользуются для внутреннего порабощения. Гаршин, возражая, выдвинул мотив, который впоследствии повторялся в его военных рассказах:
— Вы, значит, находите безнравственным, что я буду жить жизнью русского солдата и помогать ему в борьбе, где каждый полезен… Неужели будет более нравственно сидеть сложа руки, тогда как этот солдат будет умирать за нас!..
По свидетельству господина Павловского, это был единственный раз, когда он видел Гаршина «возбужденным и почти раздраженным» («он не выдержал, вскочил и в волнении заходил по комнате»). Очевидно, этот спор задевал трагедию целого поколения, быть может еще не законченную и в наши дни. Дело шло, конечно, не о «сидении сложа руки», а о том, нравственно ли примирение с внутренним порабощением, хотя бы временное, хотя бы во имя внешнего освободительного лозунга?.. И не следует ли те же чувства, которые одушевляли Гаршина, обратить на дело борьбы за освобождение собственного народа? Террора тогда еще не было. Был народнический идеализм, стремление «в народ», требовавшее самопожертвования не менее войны и находившее отклики в собственной душе Гаршина. Настроение у споривших было одно, решения разные, и потому каждый чувствовал в выводе другого часть собственной души. Это живое трепетание чуткой совести и мысли делало рассказы Гаршина такими близкими его поколению.
Гаршин пришел к своему решению, почерпнув его в той же народнической формуле. Солдат — тот же народ, только в солдатской шинели. Народ идет на войну, мы обязаны идти с ним. Драматическую сложность вносило в эту формулу еще искреннее осуждение самой войны. Война безнравственна и ужасна. Мы обязаны участвовать в ее безнравственности и ужасе.
«12 апреля 1877 года, — говорит Гаршин в своей автобиографии, — я с товарищем (Афанасьевым) готовился к экзамену по химии. Принесли манифест о войне. Наши записки остались открытыми. Мы подали прошение об увольнении из института и уехали в Кишинев, где и поступили рядовыми в 138-й Волховский пехотный полк и через день выступили в поход».
К тому времени Гаршин был юноша двадцати одного года. Портрет, приложенный к 11-му изданию его рассказов (изд. Литерат. фонда), довольно верно передает его черты, но к ним нужно прибавить живое обаяние какой-то ласковой печали, светившейся в глазах. Все знавшие Гаршина единогласно отмечают это обаяние его взгляда, а один (Н. В. Рейнгардт) говорит: «У маленького Гаршина, мне казалось, появлялся иногда меланхолический взгляд женщины, безропотно переносящей свою судьбу…» Отчасти это объяснялось, конечно, зародышем душевной болезни. Уже в 1872 году Гаршин, еще гимназистом, перенес приступ серьезного психического расстройства и был помещен в лечебницу. Страх перед болезнью придавал особую глубину душевным тревогам, сомнениям и внутренней борьбе Гаршина. Окончательно принятое решение, наоборот, вносило успокоение. Этим объясняется та душевная ясность, которая сопровождала Гаршина среди трудностей похода. Даже зрелище первых раненых, которых он увидел около 29 июня под Ковачицей, не нарушило этого душевного равновесия: «Я никогда не ожидал, — писал он с похода И. Е. Малышеву, — чтобы, при моей нервности, я до такой степени спокойно отнесся к сказанным предметам, хотя, — прибавляет он, — трупы мы видели поистине ужасные» [120].