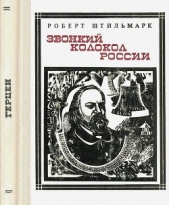Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева)

Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева) читать книгу онлайн
Писатель, мыслитель, революционер, ученый, публицист, основатель русского бесцензурного книгопечатания, родоначальник политической эмиграции в России Александр Иванович Герцен (Искандер) почти шестнадцать лет работал над своим главным произведением — автобиографическим романом «Былое и думы». Сам автор называл эту книгу исповедью, «по поводу которой собрались… там-сям остановленные мысли из дум». Но в действительности, Герцен, проявив художественное дарование, глубину мысли, тонкий психологический анализ, создал настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы, общественную, литературную и политическую жизнь России середины ХIХ века.
Роман «Былое и думы» — зеркало жизни человека и общества, — признан шедевром мировой мемуарной литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Неужели же нет никакого мерила истины и мы будим людей только для того, чтобы им сказать пустяки?
Так продолжался довольно долго разговор. Наконец я заметил, что развитие науки, что современное состояние ее обязывает наск принятию кой-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет; что, однажды узнанные, они перестают быть историческими загадками, а делаются просто неопровержимыми фактами сознания, как Эвклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причины и действия, духа и материи.
— Все это так мало обязательно, — возразил Грановский, слегка изменившись в лице, — что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа, с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо.,
— Славно было бы жить на свете, — сказал я, — если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было бы тут как тут, на манер сказок.
— Подумай, Грановский, — прибавил Огарев, — ведь это своего рода бегство от несчастья.
— Послушайте, — возразил Грановский, бледный и придавая себе вид постороннего, — вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах, мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее.
— Изволь, с величайшим удовольствием! — сказал я, чувствуя холод на лице. Огарев промолчал. Мы все взглянули друг на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно; мы все слишком любили друг друга, чтоб по выражению лиц не вымерить вполне, что произошло. Ни слова больше, спор не продолжался. Natalie старалась замаскировать, исправить случившееся. Мы помогли ей. Дети, всегда выручающие в этих случаях, послужили предметом разговора, и обед кончился так мирно, что посторонний, который бы пришел после разговора, не заметил бы ничего…
После обеда Огарев бросился на своего Кортика, я сел на выслужившую свои лета жандармскую клячу, и мы выехали в поле. Точно кто-нибудь близкий умер, так было тяжело; до сих пор Огарев и я, мы думали, что (194) сладим, что дружба наша сдует разногласие, как пыль; но тон и смысл последних слов открывал между нами даль, которой мы не предполагали. Так вот она межа — предел и с тем вместе ценсура! Всю дорогу ни Огарев, ни я не говорили. Возвращаясь домой, мы грустно покачали головой и оба в один голос сказали: «Итак, видно, мы опять одни?»
Огарев взял тройку и поехал в Москву, на дороге сочинил он небольшое стихотворение, из которого я взял эпиграф.
…
С Грановским я встретился на другой день как ни в чем не бывало — дурной признак с обеих сторон. Боль еще была так жива, что не имела слов; а немая боль, ни имеющая исхода, как мышь середь тишины, перегрызает нить за нитью…
Дни через два я был в Москве. Мы поехали с Огаревым к Е. К<оршу>. Он был как-то предупредительно любезен, грустно мил с нами, будто ему нас жаль. Да что же это такое, точно мы сделали какое-нибудь преступление? Я прямо спросил Е. К<орша>, слышал ли он о нашем споре? Он слышал; говорил, что мы все слишком погорячились из-за отвлеченных предметов; доказывал, что того идеального тождества между людьми и мнениями, о котором мы мечтаем, вовсе нет, что симпатии людей, как химическое сродство, имеют свой предел насыщения, через который переходить нельзя, не наткнувшись на те стороны, в которых люди становятся вновь посторонними. Он шутил над нашей молодостью, пережившей тридцать лет; и все это он говорил с дружбой, с деликатностью — видно было, что и ему не легко. (195)
Мы расстались мирно. Я, немного краснея, думал о моей «наивности», а потом, когда остался один и лег в постель, мне показалось, что еще кусок сердца отхватили— ловко, без боли, но его нет!
Далее не было ничего… а только, все подернулось чем-то темным и матовым; непринужденность, полный abandon [357]исчезли в нашем круге. Мы сделались внимательнее, обходили некоторые вопросы, то есть действительно отступили на «границу химического сродства» — и все это приносило тем больше горечи и боли, что мы искренно и много любили друг друга.
Может, я был слишком нетерпим, заносчиво спорил, колко отвечал… может быть… но в сущности я и теперь убежден, что в действительно близких отношениях тождество религиинеобходимо, тождество в главных теоретических убеждениях. Разумеется, одного теоретического согласия недостаточно для близкой связи между людьми; я был ближе по симпатии, например, с И. В. Киреевским, чем с многими из наших. Еще больше, можно быть хорошим и верным союзником,сходясь в каком-нибудь определенном деле и расходясь в мнениях; в таком отношении я был с людьми, которых бесконечно уважал, не соглашаясь в многом с ними, например, с Маццини, с Ворцелем. Я не искал их убедить, ни они — меня; у нас довольно было общего, чтоб идти, не ссорясь, по одной дороге. Но между нами, братьями одной семьи, близнецами, жившими одной жизнию, нельзя было так глубоко расходиться.
Еще бы у нас было неминуемое дело, которое бы нас совершенно поглощало, а то ведь собственно вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений… какие же могли быть уступки на этом поле?..
Трещина, которую дала одна из стен нашей дружеской храмины, увеличилась, как всегда бывает — мелочами, недоразумениями, ненужной откровенностью там, где лучше было бы молчать — и вредным молчанием там, где необходимо было говорить; эти вещи решаег один такт сердца, тут нет правил.
Вскоре и в дамском обществе все разладилось. (196)
На ту минуту нечего было делать.
Ехать — ехать вдаль, надолго, непременно ехать! Но ехать было не легко. На ногах была веревка полицейского надзора и безразрешения Николая заграничного паспорта мне выдать было невозможно.
ГЛАВА ХХХ III
…За несколько месяцев до кончины моего отца граф Орлов был назначен на место Бенкендорфа. Я написал тогда к Ольге Александровне, не может ли она мне выхлопотать заграничного пасса или какой-нибудь вид для приезда в Петербург, чтоб самому достать его. О. А. отвечала, что второе легче, и я получил через несколько дней от Орлова «высочайшее» разрешение приехать в Петербург, на короткое время для устройства дел. Болезнь моего отца, его кончина, действительное устройство дел и несколько месяцев на даче задержали меня до зимы. В конце ноября я отправился в Петербург, предварительно подав просьбу генерал-губернатору о пассе. Я знал, что он не мог разрешить, потому что я все еще был под строгимнадзором полиции, мне хотелось одного, чтоб он послал запрос в Петербург.
В день отъезда я утром послал взять билет из полиции, но вместо билета явился квартальный сказать, что есть какие-то затруднения и что сам частный пристав будет ко мне. Приехал и он, и попросивши, чтоб я остался с ним наедине, он таинственно объявил мне новость, что мне пять лет тому назад въезд в Петербург запрещен и что без высочайшего повеления он билета не подпишет.
— За этим у нас дело не станет, — скатал я, смеясь, и вынул из кармана письмо.
Частный пристав, сильно удивленный, прочитав, попросил дозволение показать обер-полицмейстеру и часа через два прислал мне билет и мою бумагу.