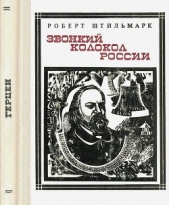Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева)

Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева) читать книгу онлайн
Писатель, мыслитель, революционер, ученый, публицист, основатель русского бесцензурного книгопечатания, родоначальник политической эмиграции в России Александр Иванович Герцен (Искандер) почти шестнадцать лет работал над своим главным произведением — автобиографическим романом «Былое и думы». Сам автор называл эту книгу исповедью, «по поводу которой собрались… там-сям остановленные мысли из дум». Но в действительности, Герцен, проявив художественное дарование, глубину мысли, тонкий психологический анализ, создал настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы, общественную, литературную и политическую жизнь России середины ХIХ века.
Роман «Былое и думы» — зеркало жизни человека и общества, — признан шедевром мировой мемуарной литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Только что Голицын придумал, как уж Николай опять несся стремглав в Москву. Тут Голицын поймал его, пока он не ударился в Тулу, и представил ему Дмитрия Павловича. Он вышел от государятоварищем попечителя.
С этого времени Дмитрий Павлович начал приметно толстеть, наружность его выражала еще больше важности; он стал как-то больше говорить в нос, чем прежде, и фрак стал носить как-то пошире, без звезды, но, видимо, предчувствуя ее.
До его назначения в университет мы были с ним настолько близки, насколько различие лет позволяло (он был лет 16 старше меня). Тут я с ним чуть не рассорился, по крайней мере лет десять кряду мы смотрели друг на друга с неприязненным холодом.
Частной причины на это не было никакой. Его поведение относительно меня было всегда исполнено деликатности, без ненужной короткости, без оскорбительного отдаления. Это потому заслуживает внимания, что отец мой, с своей стороны, стараясь нас сблизить, делал все, что следует, чтоб поселить между нами ненависть.
Он постоянно толковал мне, что Сенатор и Дмитрий (177) Павлович — мои естественные покровители,что я должен быть к ним прибежен,что я должен ценить их родственную ласку. К этому он прибавлял, что само собою разумеется, что все их знаки внимания оказываются собственно для него, а не для меня. Относительно старика Сенатора, к которому я привык почти столько же, сколько к моему отцу, с той разницей, что его я не боялся, мне эти слова ничего не значили, но от Голохвастова они меня отдаляли, и если не отдалили, то это благодаря такту, с каким себя Голохвастов постоянно вел.
Вещи эти отец мой говорил не в минуту досады, а в самом лучшем расположении духа, и это оттого, что в екатерининском веке клиентизм был обыкновенен-, подчиненные не смели сердиться за «ты» от начальника и все на свете открыто искали милостивцев и покровителей.
Когда Дмитрий Павлович был назначен в университет, я думал точно так, как князь Сергий Михайлович, что это будет очень полезно для университета; вышло совсем напротив. Бели бы Голохвастов тогда попал в губернаторы или в обер-прокуроры, весьма можно предположить, что он был бы лучше многих губернаторов и многих обер-прокуроров. Место в университете было совсем не по нем; свой холодный формализм, свое педантство он употребил на мелочное, пансионское управление студентами; такого вмешательства начальства в жизнь аудитории, такого педельства на большом размере не было при самом Писареве. И тем хуже, что Голохвастов сделался в нравственном отношении то, что были Панин и Писарев для волос и пуговиц.
Прежде в нем было, при всем можайско-верейском торизме его, что-то образованно-либеральное, любовь к законности, негодование против произвола, против чиновничьего грабежа. С вступления в университет он становился ex officio [343]со стороны всех стеснительных мер, он считал это необходимостью своего сана. Время моего курса было временем наибольшей политической экзальтации; мог ли же я остаться в хороших отношениях с таким усердным слугою Николая?
Формализм его и это вечное священнодействие, mise en scene [344]себя, иногда вводили его в самые забавные (178) истории, из которых, вечно занятый сохранением достоинства и постоянно довольный собой, он не умел никогда ловко вывернуться.
Как председатель московского ценсурного комитета, он, разумеется, тяжелой гирей висел на нем и сделал то, что впоследствии книги и статьи посылали ценсировать в Петербург. В Москве был старик Мяснов, большой охотник до лошадей, он составил какую-то генеалогическую таблицу лошадиных родов и, желая выиграть время, просил позволения посылать в ценсуру корректурные листы — вместо рукописи, в которой, вероятно, хотел сделать поправки. Голохвастов затруднился, произнес длинную речь, где плодовито изложил pro и contra, [345]и заключил ее тем, что, впрочем, разрешить присылку корректурных листов в ценсуру можно, буде автор удостоверит, что в его книге нет ничего против правительства, религии и нравственности.
Холерический и раздражительный Мяснов встал и с серьезным видом сказал:
— Так как это дело остается на моей ответственности, то я считаю необходимым оговориться, в книге моей, конечно, нет ни одного слова против правительства, ни против нравственности, но насчет религии я не так уверен.
— Помилуйте! — сказал удивленный Голохвастов.
— А вот, извольте видеть, в Кормчей книге есть статья, так гласящая: «Над корчагами клянущие, волосы плетущие и на конские ристалища ходящие да будут преданы анафеме». А я в моей книге очень много говорю о конских ристалищах, так, право, и не знаю…
— Это не может быть препятствием, — заметил Голохвастов.
— Покорнейше вас благодарю за разрешение сомнения, — ответил колкий старик, откланиваясь.
Когда я возвратился из второй ссылки, положение Голохвастова в университете было не прежнее. На место князя СергийМихайловича поступил граф СергейГригорьевич Строганов. Понятия Строгонова, сбивчивые и неясные, были все же несравненно образованнее. Он хотел поднять университет в глазах государя, отстаивал- его права, защищал студентов от полицейских набегов и был (179) либерален, насколько можно быть либеральным, нося на плечах генерал-адъютантский «наш» с палочкой внутри и будучи смиренным обладателем строгановского майората. В этих случаях не надо забывать la difficulte vaincue [346]
— Какая страшная повесть Гоголева «Шинель», — сказал раз Строгонов Е. К<оршу>, — ведь это привидение на мосту тащит просто с каждого из нас шинель с плеч. Поставьте себя в мое положение и взгляните на эту повесть.
— Мне о-очень т-трудно, — отвечал К(орш), — я не привык рассматривать предметы с точки зрения человека, имеющего тридцать тысяч душ.
Действительно, с такими двумя бельмами, как майорат и «наш» с палочкой, трудно ясно смотреть на божий свет, и граф Строгонов иногда заступал постромку, делался чисто-начисто генерал-адъютантом, то есть взбалмошно-грубым, особенно когда у него разыгрывался его желчный почечуй, но генеральской выдержки у него недоставало, и в этом снова выражалась добрая сторона его натуры. Для объяснения того, что я хочу сказать, приведу один пример.
Раз кончивший курс казенный студент, очень хорошо занимавшийся и определенный потом в какую-то губернскую гимназию старшим учителем, услышав, что в одной из московских гимназий открылась по его части ваканция младшего учителя, пришел просить у графа перемещения. Цель молодого человека состояла в том, чтобы продолжать заниматься своим делом, на что он не имел средств в губернском городе. По несчастию, Строгонов вышел из кабинета желтый, как церковная свечка.
— Какое вы имеете право на это место? — спросил он, глядя по сторонам и подергивая усы.
— Я потому прошу, граф, этого места, что именно теперь открылась ваканция.
— Да и еще одна открывается, — перебил граф, — ваканция нашего посла в Константинополе. Не хотите ли ее?
— Я не знал, что она зависит от вашего сиятельства, — ответил молодой человек, — я приму место посла с искренней благодарностию. (180)
Граф стал еще желтее, однако учтиво просил его в кабинет.
У меня лично с ним бывали прекурьезные сношения; самое первое свидание наше не лишено того родного колорита, по которому сразу узнается русская школа.
Вечером как-то, во Владимире, сижу я дома за своею Лыбедью; вдруг является ко мне учитель гимназии, немец, доктор Иенского университета, по прозванию Делич, в мундире. Доктор Делич объявил мне, что утром приехал из Москвы попечитель университета, граф Строганов, и прислал его пригласить меня завтра в десять часов утра к себе.
— Не может быть; я его совсем не знаю, и вы, верно, перемешали.
— Это не фозмошно. Der Herr Graf geruhten aufs freundlichste sich bei mir zu beurkunden fiber Ihre Lage hier. [347]Увы, едете?