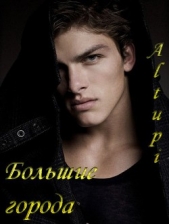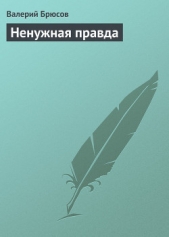Беленькие, черненькие и серенькие
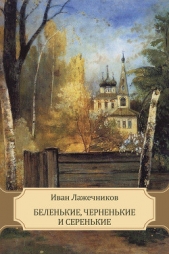
Беленькие, черненькие и серенькие читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На безыменной земляной насыпи, под которою навсегда почил Насон Моисеич, поставлен деревянный крест усердием кухарки, и ею же творились по нём поминки. Но и те скоро замолкли. Только неизменные с веками солнышко и месяц попеременно да звезды рассыпные приходят и поныне голубить своими лучами могилку его, как и прочих братьев, почиющих на общей усыпальне; только ветры непогодные прилетают на неё с своими заунывными песнями и гулят покойников в их смертной колыбели. Ещё чадолюбивая церковь не перестаёт ежегодно поминать всех их в общей своей молитве. Бог знает, и могилка-то Насона Моисеича его ли нынче?.. Может быть, два-три новые вечные жильца пришли занять её и потеснить в ней кости бывшего начальника целого города.
Не знаю, какой дурной человек выучил Ваню разыгрывать роль городничего, отыскивающего своих арестантов. Все помирали со смеху, когда мальчик, щуря глаза и ныряя по сторонам, взывал тоненьким, пискливым голосом: «Арестанты! Арестанты! Где вы?» Но Ларивон скоро прекратил эту комедию, сказав Ване, что стыдно и грешно передразнивать покойника.
После Насона Моисеича принял бразды правления какой-то коллежский секретарь [174]. Он был из числа тех господ, которые носят романическое имя и половину фамилии своего отца [175]. Назовём его просто Модестом Эразмовичем. Это был человек порядочно образованный по-тогдашнему, писал отличным почерком по-французски и даже сочинял русские стихи. Презентабельная наружность говорила в его пользу. Он всегда был одет щегольски. Так и сияло от него перстнями, золотом массивных цепей с разными побрякушками и дорогими булавками в виде пылающего сердца, колчана с стрелами и голубя, несущего во рту письмо. Особенно имел он искусство, даруемое только некоторым избранникам, поражать взоры ослепительным блеском солитера [176] на указательном пальце.
Разница в управлении городом между двумя начальниками была неизмеримая. Предшественник никогда ни на шаг не отлучался из города, под опасением, что его расстреляют, если он нарушит это правило; а преемник почти никогда не бывал в городе. Первый трясся на войлочках, окутав ноги тряпицей, а второй спокойно езжал на дрожках, ничем не покрывая глянцевитых своих сапог. Один имел письмоводителем низенького старичка, с носом в виде кровяной колбасы, на котором нахально торчали два стёклышка вроде очков, а другой привёз своего письмоводителя, высокого, средних лет, с орлиным носом, у которого кончик был очень бел, как бы отмороженный, но заметьте — с носом, не терпящим никакого ига. У одного письмоводитель пил горькую и закусывал луком, у другого пил сладкую и замаривал водочный запах гвоздикой и амбре [177]. Секретарь Насона Моисеевича делал только свои дела, а секретарь Модеста Эразмовича — домашние и служебные дела свои и своего начальника с неутомимым рвением и преданностию, отчего расходы просителей и вообще граждан получили быстрое развитие и преуспеяние. Сначала жители ощутили эту разницу, немного втайне пороптали, но, едва прошло несколько недель, попривыкли к новому ходу дел, как привыкает ко всему человек, сумевший ужиться и между льдами полярными и под зноем тропиков. Впрочем, как скоро новый письмоводитель ознакомился с жителями, а ещё более вник глубоко в статистику их состояний, он очень уравнительно, по правилу товарищества, обложил каждого, не обходя и сумы нищего, а купцы наложили маленькие проценты на товары и съестные припасы. Вскоре граждане обучились считать городничего и его штат какою-то законною повинностью. Нового письмоводителя начали также провозглашать благодетелем человечества и говорили при этом: «Вот и Насон Моисеич, дай Бог ему царствие небесное! Уж не добрая ли была душа… а всё-таки бывало гнёт на закон. Всё упрашивал, чтобы купцы не скупали ничего за заставами. Это, говорит, какое-то манноболие! Видно, по-малороссийски или по-чухонски [178], прости Господи! Неравно, говорит, приедет ревизор, меня и вас всех упечёт под суд. Толку что в нём, что честный — ни себе ни людям! А этот — молодец, никого не боится, любит взять, да и нашему брату любит дать поживу».
Новый благовоспитанный городничий был очень далёк от всех этих проделок. Попробуй принести — турнёт, что и своих не узнаешь. Он сердито на словах гнал взяточничество и даже написал оду на лихоимство [179], где представил его во образе какого-то ужасного чудовища, пожирающего собственных детей. А вздумай кто жаловаться на письмоводителя — пугнёт так, что ступеньки все на лестнице его пересчитаешь. Не пожалеет и солитера!
Так жители забыли добрейшего Насона Моисеича и обращались к Модесту Эразмовичу только с высокоторжественными поздравлениями, в том числе и в день его ангела.
Как выше сказано, новый городничий большую часть дня, иногда и ночи, проводил вне города. Почти каждый день езжал он к какой-то графине, жившей врознь с мужем, в богатом поместье, за несколько вёрст от Холодни. Её протекции обязан он был своим новым местом и за то в благодарность исполнял при ней должность домашнего секретаря. А так как графиня занималась сочинением французских романов, довольно многотомных, которых рукописи любила иметь в нескольких экземплярах, то и записывался он до изнеможения сил. В нынешнее время графиня взяла бы в секретари француза, но тогда в России иностранцы были редки, особенно трудно было их найти для должности домашнего секретаря. Всё были старые роялисты!.. [180] Собираясь к графине, чтобы явиться к ней в приятном виде, он часа два тщательно занимался туалетом своим: чистил себе ногти, артистически обделывал свои букли, помадил губы, пудрил лицо, надев свой солитер, долго любовался им и т.п.
Сверх того, Модест Эразмович страстно любил охоту с ружьём. Стрелял он так метко, что попадал в серебряный пятачок. Письмоводитель, которого он определил в эту должность за то, что несколько лет таскался с ним по болотам и носил застреленную дичь, хотя и славился тоже мастерской стрельбой, попадал только в медный пятак [181]. Может быть, как политичное лицо, он немного кривил ружьём и душой, чтобы не помрачить славы своего начальника. Новый городничий посвящал также несколько часов сочинению стихов. Стихи эти, большей частью эротические или любовные, как их называли, ходили между властями по городу и даже губернии. Немудрено, что многие из его песен дошли до нас в песенниках того времени и те, которые считаются лучшими в этих сборниках, принадлежат, конечно, тогдашнему городничему. С дамами мог бы, но боялся быть очень любезным, потому что люди, при нём в услужении находившиеся, принадлежали графине.
Так как он обретался более в уезде, чем в городе, то и прозвали его уездным городничим. В этом названии, как и во многих других, довольно метких, был виновен добрейший Максим Ильич Пшеницын, который, несмотря на свой кроткий, миротворный характер, любил почесать язычок на счёт других. Это была врождённая слабость, за которую он не раз дорого платился и однажды едва не подпал большой беде [182].
Уездный городничий ласкал Ваню и имел отчасти влияние на его воспитание. Модест Эразмович научил его первым правилам стихотворства и декламации [183]. Ваня с одушевлением и верно читал его стихи перед многочисленной публикой и даже раз произнёс русский акростих [184], заранее переведённый на французский язык, перед поэтической графиней, которой городничий представил его как ранний талант. Ваня декламировал стихи «с толком, с чувством, с расстановкой» [185], и графиня наградила ранний талант поцелуем и французским молитвенником в роскошном переплёте. «Будь добродетель, имей нрав чист и благочесть», {5} — сказала Ване русская графиня и дала городничему поцеловать свою ручку в знак благодарности, что привёз такого милого цитатора стихов. Надо сказать, что эта высоконравственная женщина, покинувшая своего мужа за его беспутную жизнь, когда ей было гораздо за сорок лет, одевалась иногда в подражание островитянкам Тихого океана — в каком-то лёгком, полувоздушном пеньюаре, обрисовывавшем очень хорошо её роскошные формы.