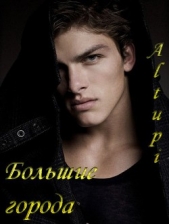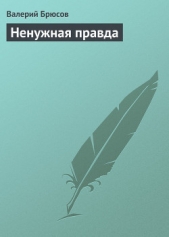Беленькие, черненькие и серенькие
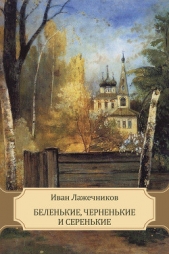
Беленькие, черненькие и серенькие читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кто езжал по холоденской дороге, тот не мог не заметить на возвышенной равнине, за двадцать вёрст с небольшим от Москвы, несколько вправо от дороги, одинокую сосну, вероятно, пережившую целый век. Так как окрестные жители искони хранят к этому дереву особенное благоговение и не запахивают корней его, то оно свободно раздвинуло кругом на несколько сажень свои жилистые сучья, из которых образовалась мохнатая шапка. В тени её могут укрыться несколько десятков человек. Видно, она стала тяжела старому богатырю, и он к верху несколько согнул под нею свой стан. Это дерево подало Мерзлякову мысль написать известную песнь [118]:
Она была во времена оны в таком же ходу по всей Руси, как «Чёрная шаль» Пушкина [119]. Только, по самоуправству поэтическому, сосна превращена в дуб.
Когда с сосной поравнялась кибитка, в которой ехала Прасковья Михайловна с двумя сокровищами — сыном и богатым подарком свёкра, уж начинало темнеть. Предметы стали сливаться; только одинокое дерево в своей чёрной, мохнатой шапке господствовало над снежною равниной. Ветер наигрывал в его сучьях какую-то заунывную мелодию и взметал около него снежный круг. Показалась деревня Теряевка [120]. Вся она из четырёх-пяти дворов, без улицы. Избы наподобие свиных клетухов [121], солома на крышах, взъерошенная, как волосы у пьяного мужика, кругом поваленные и прорванные плетни, дворы без покрышки [122] — всё это худо говорило о довольстве и нравственности жителей. Сквозь маленькие окна, заткнутые кое-где грязными тряпицами [123], заморгали подслеповатые огоньки. Ветер колотил по крышам не утверждённые на них жерди. Одно имя Теряевки звучит недобрым смыслом, и недаром: сюда переселены были из каких-то дальних поместий избранные негодяи; в виду деревни Волчьи Ворота, где не один прохожий и проезжий потерял своё добро и свою голову. Сделалась темь, только что чертям за волосы драться. У крайней избы, вросшей в землю, послышался какой-то зловещий свист. Этому свисту отвечали далеко впереди. Сердце дрогнуло и сильнее забилось у ямщика, Ларивона и молодой купчихи. Ямщик толкнул слугу и стал с ним перешёптываться, слуга взглянул на госпожу свою. Ваня спал крепким сном возле матери. Тут вспомнила Прасковья Михайловна слова свёкра и поздно раскаялась, что не послушалась его совета ночевать в Люберцах. Лишиться такой важной суммы, какую она везла, может быть, видеть, как зарежут сына её, и умереть самой во цвете лет, с такими блестящими надеждами, под ножом разбойника… Подумала она, и вся кровь её прилила к сердцу.
— Голубчик, Ларивон, худо? — спросила она, — не воротиться ли назад?
— Что назад! — перехватил ямщик. — До Островцов рукой подать, а назад до первой деревни добрых пять вёрст. Не ночевать же в разбойничьей Теряевке!
— Сотворите крестное знамение, барыня, — сказал Ларивон, — Бог милостив. У меня мушкетон [124], а в случае нужды на подмогу топор.
— Дай мне топор, — сказала она.
— Пожалуй, да что вы с ним сделаете?
— Что смогу.
Она приняла тяжёлое орудие, но не могла сдержать его и положила возле себя. Ларивон, осмотрев мушкетон, посыпал пороху на полку из патрона, который вынул из-за пазухи.
Ямщик поехал шагом… Как будто в лад общему настроению, и колокольчик робко зазвенел.
— Пошёл! — закричала молодая женщина, — ты уж с ними не заодно ль? Первому тебе этот топор.
— Не мешай, барыня, — отвечал сердито ямщик, выхватил из кибитки топор и положил его в своё сидение, — не твоё дело. Разбуди-ка лучше дитя, чтобы не испужался.
Потом снял шапку, перекрестился и примолвил:
— С крестом худых дел не делают.
Мать, невольно повинуясь ямщику, разбудила ребёнка.
— А что, приехали? — спросил Ваня, встрепенувшись и протирая глаза.
— Нет ещё, а близко… услышишь, может, крик… не пугайся… это ямщик хочет вперегонку с знакомым ямщиком.
— Где ж, мама?
— Впереди, голубчик, тебе не видать за лошадьми.
Продолжали ехать шагом… колокольчик нет-нет звякнет да и застонет… Уж чернел мост в овраге; на конце его что-то шевелилось… За мостом горка, далее мрачный лес; в него надо было въезжать через какие-то ворота: их образовали встретившиеся с двух сторон ветви нескольких вековых сосен. Мать левою рукою прижала к себе сына, правою сотворила опять крестное знамение.
— Теперь держитесь крепко, — сказал ямщик и гаркнул изо всей мочи: — Эй! Соколики! Выручайте, грабят!..
В голосе его было что-то дикое, отчаянное; казалось, лес вздрогнул от этого крика и повторил его в бесчисленных перекатах. Лошади, и без принуждения привыкшие выносить в гору так, что не было ещё человека, который мог бы удержать их на подобных выносах, рванулись и помчались, будто бешеные. Что-то крякнуло на мосту, полетели куски жерди, которою он был загорожен, кто-то застонал… порвалась бранная речь, перехваченная ветром… Все эти звуки следовали один за другим по мгновениям ока так, что чуткое ухо сидевших в кибитке, ловившее малейший признак опасности, могло смутно различить их. Кибитка взлетела на горку и понеслась будто по воздуху. Между тем что-то ударило в волчок кибитки [125] и раздробило его верхушку, послышался ружейный выстрел… Ваня закричал и прижался к матери. Разъярённых коней не могли удержать ближе Островцов.
В деревне отрадно забегали со всех сторон огоньки в фонарях и обступили кибитку; послышались ласковые голоса, приглашавшие проезжих переночевать и обольщавшие ямщика и дешёвым кормом, и крупитчатыми папушниками [126] с липовым мёдом. Он угрюмо молчал и въехал в знакомый постоялый двор. Пар от лошадей застлал двор.
Кибитка подъехала к чистому крылечку, устланному соломой. На нём старушка с добродушным лицом встретила приезжих и осветила им дорогу фонарём. Горенка, в которую они вошли, напитанная смоляным запахом от стен, только перелетовавших [127], была чистая и тёплая; свет от лампады, теплившейся перед иконами, обдал их каким-то благодатным чувством. Первым делом Прасковьи Михайловны было броситься на колени и со слезами благодарить Господа за спасение её с сыном; Ваня сделал то же по её приказанию. Она была бледна, но скоро оправилась и за самоваром почти забыла только что минувшую беду.
Вошёл ямщик, сердитый, угрюмый, почесал голову и с досадой бросил свою шапку на залавок [128].
— Ну, барыня, — сказал он, — крепко обидела ты меня… поусумнилась во мне…
— Прости мне, голубчик мой, — перебила Прасковья Михайловна, — не в своём разуме была… сам посуди, возле меня дитя… один только и есть… ведь и у тебя, чай, дети.
И слёзы помутили глаза молодой женщины.
— Кабы не этот мальчуган, не бессудь — закаялся бы во веки веков возить тебя по дорогам. Ну, да ты добрая барыня (тут ямщик махнул рукой); на тебя и зла нет!.. А всё-таки лошадок полечить надо, да и мне не худо отвесть душу.
Прасковья Михайловна вынула из кошелька, висевшего у ней на груди, два империала из Ваниных денег и отдала их ямщику. Мальчик знал, что эти деньги ему подарены, и весело смотрел, как отдавали их.
— А что лошадки, не больно ли ушиблись? — спросила она.
— Благо разбойничья жердь пришла в упор хомутам… [129] царапины есть на всех, одна похрамывает… да Бог не без милости!.. А коли зачахнут, знаю, не обидишь меня. Пшеницыны по Холодне первые люди, а ты краля холоденская.