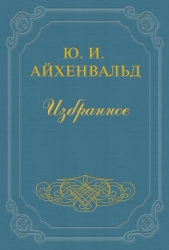Путешествие Глеба

Путешествие Глеба читать книгу онлайн
В четвертом томе собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) печатается главный труд его жизни – четырехтомная автобиографическая эпопея «Путешествие Глеба», состоящая из романов «Заря» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950) и «Древо жизни» (1953). Тетралогия впервые публикуется в России в редакции, заново сверенной по первопечатным изданиям. В книгу включены также лучшая автобиография Зайцева «О себе» (1943), мемуарный очерк дочери писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб «Я вспоминаю» и рецензия выдающегося литературоведа эмиграции К. В. Мочульского о первом романе тетралогии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Разные попадались среди них, и лучше, и хуже, но повсюду готовили на примусах, сушили в комнатах белье, стирали, гладили, ругались, ссорились, мирились. Столовая, хотя и считалась колесниковской, но скорей ее можно было назвать узловой станцией – снизу вверх непрерывно шныряли бабки, бегали дети, проходили к жильцам посетители. Пар от корыт с пеленками то подымался снизу, из подземных царств, то просто, очень откровенно расстилался над маскою Петра и Венецией Каналетто.
Все это с жизненного конца понятно, даже и неоспоримо. Все-таки тягостно: Агнесса Ивановна просто боялась, по ночам запирала дверь на ключ – мало ли кто может забраться и поискать, не спрятано ли чего. Иногда Маркан ночевала у нее, чтобы не было так жутко. Или барон, облысевший, но такой же элегантный, как и прежде, работавший теперь в советском теннисе, пристраивался на ночь на сундучке. Но от Маркана с ее предсказаниями и мраком становилось еще жутче, барон вел жизнь таинственную, полную авантюр – Герцена же Агнессе Ивановне вслух более не читал.
Геннадий Андреич тоже запирался на ночь. Но не из боязни: для порядка. Он ничего никогда не боялся, всегда чувствовал свое превосходство и силу. В ранние годы это выражалось иногда резко: то, что называется крутой характер. Теперь же не только Анна, а и другие, и он сам стали замечать в нем изменение, смягчение. Преодолеть отталкивания от муравейника он не мог – слишком уж это не по нем. Но в жизни его не все было по-старому. Например, стал он ходить в церковь, чего раньше не делал, с удивлением замечая, что церковная служба с ее ритмом, глубоким благообразием, так далеким от хаоса и некрасоты вокруг, действовала успокоительно. Как бы настраивала душу и размягчала.
Когда после всенощной (все у того же Ильи-Пророка через улицу, куда некогда возили рысаки его покойную мать) он возвращался домой, в осажденную крепость, то взгляд его на осаждающих смягчался. Не то, чтобы они особенно приближались. Но его более светлый и покойный внутренний мир менее задевали. «Что говорить-с, – думал сам с собой, снимая в кабинете потертое довоенное пальто, – что говорить, все это величайшая катастрофа. Господь, однако, попустил ее. Его святая воля, значит, так нам и надо-с, заслужили…»
Когда же вновь погружался в свои книги, слепки монет, фотографии, тот мир, в котором прожил жизнь, приобретал двойную прелесть.
А на службе появились для него и новые трудности.
В музее все осталось как бы прежнее: во главе старый безобидный князь (ему прощалось даже его княжество), Геннадий же Андреич, как и раньше, старший хранитель: душа и глава всего.
Делами наук, искусств заведовала в Москве сановная дама.
При музее от нее комиссар, молодой и задорный, как все тогда упоенный властью – он и являлся прямым надзором за Геннадием Андреичем. Сановница подчеркивала свою культурность и некоторый европеизм – в молодости подолгу жила в Париже и Женеве. Иной раз заезжала и сама в музей. Геннадий Андреич почтительно ей показывал, как некогда Великой княгине, свои владения. Она держалась вежливо, но отдаленно. Иногда делала мелкие замечания, которые он исполнял в точности. «В нашем деле не понимает», – говорил потом князю, крупному старику с татарским лицом, который и сам мало что понимал: но могло быть и хуже.
С комиссаром, товарищем Баландой, получалось труднее. («И откуда у них такие фамилии? Ну были раньше Семеновы и Петровы, а теперь разные Якиры, Ягоды… Удивительно!»)
Товарищ Баланда, краснощекий герой гражданской войны, молодой, бурный, считал свое комиссарство при музее делом временным и малоинтересным. Ему мерещились гигантские осуществления – постройки новых городов, заводов, отвод русл рек, переделка вообще всего мира, а тут какие-то каменные бабы да скифские резные украшения, кинжалы, чаши…
Он задыхался. Чтобы сколько-нибудь дать себе ходу, предпринимал неожиданные шаги: в Киевской зале надо все переставить, а для Московской воспользоваться прежней Новгородской. Немедленно разобрать ящики в архивах частных дарений и в свезенном из разных углов России в революцию.
Геннадий Андреич повиновался, вещи переезжали из залы в залу. Он хмуро надевал пенсне, которое обычно носил на отвороте пиджака, сумрачно наблюдал за работами, которые, по его мнению, были ни к чему, иногда вздыхал, но в глубине души радовался, что до его любимых монет и древних печатей Баланда пока не добрался.
«Ничего не поделаешь, надо терпеть» – шумный, полуграмотный мир так был ему чужд! Но держали стены. Самые стены музея, где десятки лет он работал, сами предметы и коллекции, среди которых жил, стали убежищем. С ним же самим Баланда держался довольно прилично. Называл «товарищ заведующий» («Какой я ему товарищ, он просто мальчишка, понятия не имеющий ни об истории, ни об археологии…») – иногда даже спрашивал: «Какая это монета?» Или: «Что такое ваза? Чем знаменита?»
Отвечать приходилось осторожно. Это не Глеб студенческих времен, это начальство, считающее, что оно все знает и во всяком случае сумеет сделать все и переделать много лучше прежнего.
Однажды Баланда наткнулся на небольшую фотографию – снимок с гипсовой плакеты. Изображался на ней Геннадий Андреич: сидит за столом с книгами, в руке увеличительное стекло. Большой лоб, переходящий в лысину, усы, бородка клинушком, на отвороте пиджака вечное пенсне – старый русский ученый, сподвижник Забелиных, Кондаковых, ничего тут не скажешь.
– Вас похоже сделали, товарищ, – сказал Баланда. – А что это вообще такое? По какому случаю?
Геннадий Андреич не весьма был доволен, что снимок попался на глаза Баланде. (Обычно лежал у него дома, и даже ближайшим своим не очень-то показывал он его.)
– Да, я затащил в каких-то книгах из дому, это все прежнее, ненужное… – и с недовольным видом протянул он руку, чтобы взять фотографию.
– Тут цифры римские. Что значит? А, да пожалуй, юбилей?
– Вы совершенно верно угадали: юбилей. Ну, что об этом говорить.
Но Баланда стал рассматривать и не сразу отдал. Цифры на плакете указывали: 1883–1913 – тридцатилетие службы в музее.
– В вашу честь медаль выбили, дело хорошее, товарищ заведующий. Значит, вы и при старом режиме являлись показательным работником. 1913! А теперь много больше, и при нашей власти герои труда также получают отличия. Работайте, работайте, орден Ленина получите.
Геннадий Андреич промолчал и недовольно сунул себе в карман фотографию. Баланда же считал, что обошелся очень милостиво со стариком, и чуть было даже не похлопал его одобрительно по плечу.
Домой Геннадий Андреич возвращался в тот день хмурый. Ничего, собственно, не имел против этого Баланды, но неприятно действовали его обмотки на ногах, гимнастерка, вихры на висках. «У меня и Государь в музее бывал, и другие ордена есть, но Государь по-другому держался… Баланда-с… одолжил бы орденом Ленина! Вот бы одолжил-с…».
У Геннадия Андреича были действительно ордена. Была и треуголка, в которой приходилось иногда ездить к генерал-губернатору на прием. Но он вообще всего этого не любил, ордена прятал подальше. Однако назывались они: св. Владимир, св. Анна… – а тут отличить собираются Лениным! «Нет-с, уж с меня достаточно. Никаких орденов, никаких героев труда».
То, что Баланда счел его чуть ли не героем труда, особенно раздражало. Герой труда! Самое выражение это приводило его в дурное настроение.
Прежде, подходя к своему дому, он подымался с улицы на несколько ступенек, мимо палисадника, звонил у подъезда. Теперь парадная раз навсегда заперта, ходили низом с черного хода – там всегда открыто.
Как обычно, он уверенно дернул за ручку входной двери: кисловатый, невеселый и несветлый воздух полуподвала. Но вот оглашается он детским воплем – прямо перед Геннадием Андреичем искаженное, позеленевшее лицо худого, рваного человека, в ногах у него визжит и бьется мальчишка, которого он лупит ремнем.
– Я тебе покажу колодки мои таскать, я тебе, сукину сыну, всю провизию искровеню…
– Дяденька, ей-ей не крал, я только поиграть хотел… дяденька…