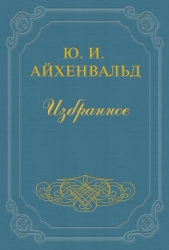Путешествие Глеба

Путешествие Глеба читать книгу онлайн
В четвертом томе собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) печатается главный труд его жизни – четырехтомная автобиографическая эпопея «Путешествие Глеба», состоящая из романов «Заря» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950) и «Древо жизни» (1953). Тетралогия впервые публикуется в России в редакции, заново сверенной по первопечатным изданиям. В книгу включены также лучшая автобиография Зайцева «О себе» (1943), мемуарный очерк дочери писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб «Я вспоминаю» и рецензия выдающегося литературоведа эмиграции К. В. Мочульского о первом романе тетралогии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мать стала просыпаться еще раньше, еще чаще вздыхать и повторять в одиночестве: «О, Боде мой, Боже мой!» – переворачиваясь на другой бок. Но для всех с виду оставалась прежней и со спокойствием философическим выслушивала, что оленьковского барина выселили, из Дуракова Настасью Ивановну тоже, и в таком роде.
Единственный кто был в Москве близкий – Соня-Собачка. Ей обо всем она и отписала. И когда подошел день суда над Прошином, Собачка приехала – три дня назад. С тем же работником Кимкой, последним пережитком прежнего, с которым голосовала Элли за эсеров, в розвальнях, сохранившейся дохе отца укатила она на суд в уездный город. Там являлась представительницей матери.
А теперь долго не возвращалась. Слишком долго. Мать беспокоилась: вчера была метель, такая страшная, ехать-то ведь тридцать верст.
Мать встала и подошла к окну. Термометр, мохнатый от налипшего снега, показывал двенадцать. Два воробья, присоседившиеся на теплой раме, что-то поклевывавшие, взлетели.
Из прихожей отворилась дверь.
– Приехали! Бабушка, приехали…
У Ксаны был довольно оживленный вид. За ней ввалилась доха, из дохи улыбались глазки Сони-Собачки, горели румянцем щеки. На голове ее мерлушковая шапка, от нее несет свежестью, зимой.
– Ну вот, тетечка, слава Богу и добралась. Ксана, Ксана, снимай валенки!
Могучая, пышущая морозом, снегом, но и всегдашнею своей жизненною стихией, села Собачка на сундук, под висевший на вешалке верхней одеждой прошлого: заячьим тулупчиком отца, шубою матери с бобровым воротником.
Мать подошла, они расцеловались. Ксана неловко стягивала один за другим валенки. Прасковья Ивановна внесла самовар – он кипел, от него несло и угарцем.
– Чаю… Это я с удовольствием… тетечка, тетечка, если бы ты знала!
– Я тревожилась за тебя. Такая метель, ты ночевала где-нибудь, что ли?
– Погоди, все расскажу. Дай в себя немножко прийти. Она оправляла волосы, прошла к матери умываться.
– Я два дня не раздевалась.
Через четверть часа сидела она уже за столом.
– С чего начинать? Тетечка, с чего начинать уж не знаю… и суд этот, и сама я к тебе чуть жива добрались. Ну, что ли, про суд…
– Ксана. пойди скажи матери, чтобы покормила Кимку, да чтобы рюмку водки дала, из той, что привезла тетя Соня.
Ксане как раз хотелось послушать «про суд», а «бабушка» находила, что именно про суд и не надо.
– Я тебя тогда позову.
«Тогда» – это значило, что без нее расскажут самое интересное. Ксана, однако, забрала свои книжки, письмо, беспрекословно отправилась.
– Суд, суд… тетечка, дорогая, это ж комедия… Горячась, сама себя перебивая, дважды рассказывая (от волнения) одно и то же, Собачка бурно повествовала.
– Ты понимаешь, сидят эти михрютки полуграмотные… и делают вид, что они судьи… Им все заранее предписано, они двух слов связать не умеют. Народным образованием в городе знаешь кто заведует? Бывший пастух! Ну вот, ну вот, тетечка, дела все были о выселениях, и быстро разрешались… некоторые там кланялись, просили оставить коровку, лошадь. А я, знаешь, сидела и кипела. Я всю эту шушеру ненавижу и вот, думаю, не пристало тетечке моей унижаться…
Мать сидела спокойно, несколько бледнее обычного и слегка поигрывала снятым пенсне.
– Ты знаешь, я у тебя не спрашивала, когда уезжала, но я подумала, постаралась представить себе, как бы дядя Коля поступил, как ты… как мой отец покойный… и тетечка, знаешь, может быть, ты будешь недовольна – когда очередь дошла до нас, я сказала, от твоего имени… что мы ничего не просим, от всего отказываемся… хотела было добавить: плюем на вас, да уж так, не добавила, по малодушию. В чеку не захотелось садиться.
Мать продолжала быть бесстрастной.
– Да, конечно, – сказала негромко, слегка глухим голосом. – Сделать ничего нельзя было. Ты правильно поступила. А резкостей им говорить не надо.
– Тетечка, как мне хотелось! Там один старый слесарь был, тоже судья… Он на меня с особенным бешенством смотрел. Все шипел. Потом в коридоре встретил, проходя, мне сказал – вполголоса – слово… я не могу повторить при тебе.
Мать вздохнула.
– Ну, это герунда. Мало ли они каких слов ни говорят…
– Тетечка, милая, ты не меняешься… Я с детства ведь помню, ты говорила: «герунда», «генварь»… Ты все такая же.
Собачка вскочила, обняла ее, стала целовать и вдруг заплакала.
– Когда я маленькая была и жила в вашем доме с Глебом, Лизой… я ведь ничего, кроме добра, от вашей семьи не видела, ни от тебя, ни от дяди Коли… Усты, шахта, «генварь»…
Мать слегка улыбалась.
– Тише, тише, задушишь…
– Тетечка, ты все тут бросишь в этом твоем Прошине, переедешь ко мне в Москву. Ты будешь в моем доме, как у себя. Я чувствую это, я знаю. Я так нынче молилась, знаешь, ведь я чуть не погибла вчера, но это рассказ отдельный. А теперь ты мне скажи: ты ведь к нам переедешь? Правда? Не будем у них выклянчивать угол, какую-нибудь корову? Ты переедешь?
Она действительно тискала «тетечку» в объятиях. Натура ее, как море при сильном ветре, расколыхалась. В ней сливалась молитва со слезами, умиление и негодование, все вместе, все давало некую бурную музыку.
– Посмотрим. Там посмотрим. Спасибо тебе за все, – говорила мать.
Успокоившись несколько, за чаем Собачка рассказывала, почему именно так запоздала. Мать, как всегда, сидела за самоваром. Ксана теперь присутствовала, неотрывно глядела на рассказчицу.
– Ты понимаешь, тетечка, выезжаем мы с Кимкой вчера из города, день был ничего себе, серенький, так, в поле немножко подувает, но на мне дядечкина доха – дай Бог ей здоровья, легкая и хорошо греет. Сижу в розвальнях, закуталась, ну, думаю, дуй, дуй, все равно меня не продуешь. Все-таки – ветерок все сильнее, просто уж настоящий ветер, и знаешь, поземка начинается… метет снизу сухим снегом мелким, колючим, Кимка на облучке ногами побалтывает, а у самого лицо снегом начинает залеплять. И дорога становится трудней. Хотя едем пока еще большаком, но уже чувствую, что кобыла едва дорогу находит, иной раз и сбивается – ткнется в сторону, а там прямо сугроб.
Мать вздохнула.
– Да, это опасно. Помню, покойный Николай Петрович ужасно попал однажды так…
– Тетечка, я с детства знаю этот рассказ и всегда в метель вспоминаю. Это еще когда он молодым инженером был?
– Да, поехал, и недалеко, и заблудились они с кучером. Всю ночь прошгутали, друг друга в метели потеряли, и лошадь.
Николай Петрович утром оказался на заборе, около нашего же дома, а кучер забрел в овраг, его позже нашли.
Ксана слушала теперь с расширенными глазами. Обычная вялость ее ушла.
– Что же кучер-то? – спросила тихо.
Мать спокойно ответила:
– Замерз. Да и Николай Петрович чудом спасся.
– Тетечка, вот именно чудом… Ты подумай, едем мы с Кимкой по большаку, метель уже по-настоящему разыгрывается, и там за Климухином поворот, знаешь, до нас, до Прошина еще верст десять. Вот мы и едем – ну, что за езда, кобыла просто шагом бредет… Вижу, Кимка начинает беспокоиться. «Куда там, к лешему, чего поехали… чего? К лешему!» Знаешь, как он всякую чушь порет. «Кимка, – говорю, – нам бы поворота не пропустить». – «Не пропустить, не пропустить… кол ему в хрен, ищи тут, где вертать… ищи сама, где вертать». Одним словом, начинает злиться. Только вдруг догоняют нас другие розвальни – и представь, лошаденка небольшая, а бежит трухом довольно-таки прилично. В розвальнях старичок, легенький, мне показалось, вроде мужичка, и очень так просто, по цельному снегу нас обгоняет – не проваливается. За ним и наша кобыла встрепенулась. Знаешь, как всегда, лошадь за лошадью. И он нас как раз на этот поворот вывел, мы свернули, но тут кобыла наша отстала – он как явился внезапно, так и исчез, просто одна белая мгла перед глазами и метель воет, воет, теперь уж разыгралась как следует. Кобыла едва бредет – да, это наш проселок, но заметен еще больше, чем большак. Кимка ругается, снег вовсю лепит, и я чувствую, что скоро начнет смеркаться. Вот, наконец, кобыла чуть что не по брюхо вязнет – то ли так проселок занесло, то ли мы его вовсе потеряли, одним словом, дело совсем дрянь.