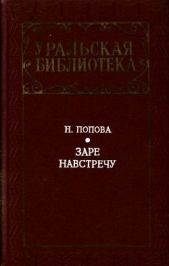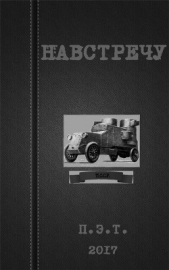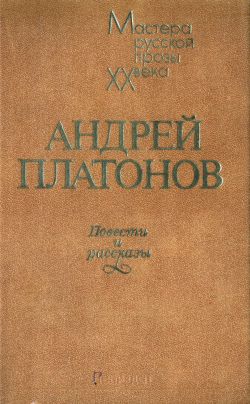Заре навстречу

Заре навстречу читать книгу онлайн
События романа Вадима Кожевникова "Заре навстречу" разворачиваются во время, непосредственно предшествующее Великой Октябрьской социалистической революции, и в первые месяцы существования Советской власти. Судьба героя, Тимы Сапожкова, неразрывно связана с историей рождения нашего общества и государства. Первые впечатления мальчика, сына ссыльных революционеров, формируют его характер и определяют жизненный путь будущего строителя новой жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Слушая, как Андросов снисходительно наставлял папу, что физическая слабость влечет за собой душевную, Тима испытывал раздражение против Павла Андреевича.
Если бы он не знал, что Андросов сам тяжело и неизлечимо болен, Тима обязательно сказал бы ему грубо и резко:
"Неправду вы говорите. Все болезни сами по себе, а люди, хоть и больные, сами по себе и остаются такими, какие они есть. Тех, кто настоящие, никакой болезнью не испортишь".
Андросов шутливо, с нарочитой бодростью беседовал с дружинником Челноковым, обожженным при тушении пожара на складе шерсти. И Челноков, хотя половина его тела была сплошная рана, улыбался синими губами Андросову, из последних сил стараясь ответить на шутку шуткой:
— Опалили меня, как борова на пасху, но ничего, другая шкура нарастет.
Он понимал, что умирает, но не сказал об этом Андросову, а сказал Завалишину. Умер он ночью, изжевав весь угол одеяла, чтобы никто не слышал, как он страдает.
А еще утром Андросов самодовольно говорил папе:
— Челноков выживет. Я его своим юмором расшевелил. Раз человек способен воспринимать юмор, значит, состояние его вполне удовлетворительное.
Наиболее выносливыми, стойкими, спокойными и дисциплинированными больными были рабочие, и лечились они, словно это был труд серьезный и необходимый.
Папа всегда обращался с просьбой к больным рабочим, когда надо было повлиять на тех, кто, проявляя слабость духа, капризничал, преувеличивал свои страдания с целью привлечь к себе побольше внимания. С жадностью выпрашивая лекарства и подозревая, что врачи скупятся выписывать их, такие больные стонали по ночам не потому, что не хватало сил терпеть, а потому, что им казалось: сиделка спит от равнодушия, а не от усталости.
Эти не стыдились брать у тяжелобольных еду, заискивали перед фельдшерами и врачами, как перед начальниками.
Тима считал своего папу очень образованным человеком и гордился: о чем ни спросишь, всегда отвечает обстоятельно и длинно. А вот врачи в больнице почему-то часто разговаривали с папой с едва прикрытой насмешливой снисходительностью.
Неболюбов всегда изумленно приподымал брови, когда папа говорил по-латыни, и, словно сдерживая зевоту, лениво поучал:
— Диагностика, голубчик, — это де интуиция. Надо не угадывать болезни, а научиться распознавать их.
Андросов, разглядывая свои большие белые, холеные руки, сердито жаловался:
— Хирург должен быть виртуозом, подобно Паганини, а мне приходится в вашем заведении из-за отсутствия обученного персонала заниматься всякой чепухой. И вообще, — брезгливо морщился он, — ланцеты тупые, иглы толстые, шприцы протекают!
Врачи словно не хотели замечать, как трудно было доставать и этот плохонький инструментарий. На толкучке папа купил тяжелый свиток граммофонной пружины, поехал в Затон, и там слесарь по его чертежам изготовил ланцеты, пинцеты, зажимы, чтобы останавливать кровь.
По ночам папа сам точил иглы для шприцов и протравливал поршни кислотой, чтобы они стали шершавыми и не протекали. Намочив веревочку керосином, обвязывал бутылку, зажигал веревочку спичкой, потом окунал бутылку в ведро с холодной водой. Бутылка лопалась поперек, и из нее получался стакан.
Папа смастерил проволочные шины для тех, у кого был перелом. А один маляр подарил папе краскотерку, и теперь на ней в больнице терли гипс, для того чтобы делать из него повязки, как папа говорил уважительно, по методу Николая Ивановича Ппрогова.
Папа так же часто поминал теперь Ппрогова, как прежде Маркса.
И Андросов любил повторять слова Пирогова: "Я бескорыстно посвятил всю свою жизнь служению истине и отечеству". Но почему-то сам не очень-то хотел отдавать всего себя служению отечеству. Глядя на похудевшего и всегда озабоченного папу темными, глубоко запавшими глазами, он произносил с ироническим сочувствием:
— Кажется, еще Платон утверждал необходимость поглощеппя личности государством. И вы, уважаемый Петр Григорьевич, своим образом жизни и мышлением могли бы вполне отвечать идеалам гражданина Спарты. — Бережно массируя толстые, длинные пальцы с коротко обрезанными ногтями, добавлял: — Что же касается меня, то я никак не могу испытывать восторга от своей деятельности. Я предпочел бы оставить человечеству после себя хотя бы одну дерзновенную и эффектную операцию, скажем — в области сердца, что является целью моей жизни, а вынужден на склоне лет превратиться в ремонтника умножать статистику самых вульгарных операций, достойных рядового земского эскулапа, — и тут же обидно усмехался: — Впрочем, вам сия жажда медицинского открытия непонятна.
— Почему они с тобой так разговаривают? — спрашивал оскорбленно Тима. Ты же им начальник?
— Видишь ли, — папа щипал бородку и осторожно пояснял: — я только фельдшер, и мои знания недостаточны.
— Но ты знаешь другое, чего они вовсе не знают.
— Если ты имеешь в виду политические знания, то именно в силу их я и обязан относиться к врачам с величайшим тактом и уважением. Если же ты заметил, что я при некоторых обстоятельствах теряю чувство собственного достоинства, я постараюсь учесть это, — спокойно отвечал папа. Но тут же твердо заявил: — То, что мне удается сделать хорошо, встречает поддержку у моих товарищей. А врачам приходится испытывать враждебное отношение своих коллег, с мнением которых они не могут не считаться, и именно за то, что они делают сейчас хорошего для нового общества. Значит, им труднее, а мне легче.
Действительно, Андросов с печальным недоумением жаловался Лялнкову:
— Представьте, шлют подметные оскорбительные письма, угрожают остракизмом. С этим еще можно было бы мириться, но то, что доктор Заиграев отказался недавно сесть за один стол со мной сыграть пульку и при всех заявил, что я заискиваю перед большевиками, занимаюсь медицинским шарлатанством, позволяя себе якобы оперировать в антисанитарных условиях, — это, знаете ли, уже публичная пощечина.
Л я ликов сказал угрюмо:
— Слух по городу пустили, будто у нас за теми, у кого на лбу звезда химическим карандашом начертана, уход, а остальные на полу в нетопленном помещении, — усмехнувшись, добавил: — Именно химическим: простым, мол, на коже не нарисуешь.
Когда папа вошел в комнату, оба замолчали, Андросов сердито, сквозь зубы сказал:
— Послушайте, милейший, ставлю вас в известность:
кетгута остался один моток.
Тима знал, что такое кетгут. Это тонюсенькие нитки из бараньих кишок, ими зашивают раны, и после эти нитки рассасываются, и их не надо вынимать, как шелковые или металлические скрепки. Это сказал папа, когда Тима с вожделением разглядывал в стеклянном шкафу полупрозрачные мотки, вслух мечтая о том, какие из них могут получиться замечательные лески.
Папа молча вынул из кармана большую плоскую коробку с иностранными надписями на крышке и положил на стол. Откинувшись на стуле, Андросов мельком взглянул на коробку и сказал:
— А вы, оказывается, более расторопный, чем я полагал.
Десять таких коробок принес папе ночью в больницу Капелюхпн и сказал виновато:
— Извините, из одной коробки струны на землю просыпались, когда брали.
— Из какой? Покажите сейчас же, из какой? — встревожился папа. Потом, отложив коробку в сторону, упрекнул:
— Почему так неаккуратно с медикаментом обращаетесь?
Капелюхин нахмурился и сказал сухо:
— Послали на склад Гоца с обыском. Новенький оплошал, подранили его там. Одна коробка, значит, раскрылась, и все из нее вывалилось. Гоц, оказывается, всякой медициной офицерский союз снабжал и через своих бывших аптекарских служащих на толкучке торговлю затеял. — Потом устало ссутулился, положил сложенные ладони меж колен, задумался и вдруг добродушно улыбнулся: — Про больницу-то вашу ничего в народе отзываются.
Я вчера одного ловил: ну, думаю, уйдет, — а ему гражданин какой-то ногу подставил, потом сам сверху на него лег. Я гражданину: спасибо, выручили. Только, говорю, как это вы решились? У него под пальто обрез, мог бы шлепнуть… А гражданин сказал: "Обрез этот еще вынуть надо, а я только из больницы вышел, слаб, думал, не слажу".