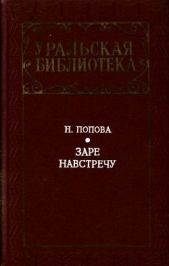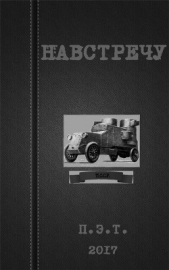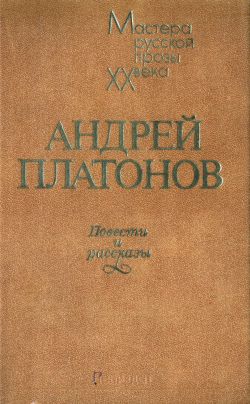Заре навстречу

Заре навстречу читать книгу онлайн
События романа Вадима Кожевникова "Заре навстречу" разворачиваются во время, непосредственно предшествующее Великой Октябрьской социалистической революции, и в первые месяцы существования Советской власти. Судьба героя, Тимы Сапожкова, неразрывно связана с историей рождения нашего общества и государства. Первые впечатления мальчика, сына ссыльных революционеров, формируют его характер и определяют жизненный путь будущего строителя новой жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А вы очень боялись умереть?
— Так как же не бояться? Мне помирать нельзя, на мне семейство.
— Сильно больно было?
— В санях растрясло. А как начали во мне доктора шуровать, тут терпел. Чего же людям орать под руку!
Гляжу, инструмент всякий, и лекарств, бинтов не жалеют. Ну, думаю, спасибо нашей власти, в беде не выдаст.
А как очкастый сказал, что он сюда от партии поставлен, тут совсем успокоился. Значит, свой имеется, вызволит.
— В очках ходит мой папа, — сообщил Тима.
Парень не выразил никакого особого удовольствия, даже упрекнул:
— Только он чего-то у тебя робкий. Брюхатый сам все действовал, а он ему, как услужающий, только инструмент подавал. Раз партийный, должен свой фасон не уступать.
— Он фельдшер, а тот доктор.
— Мне чин ни к чему, — и попросил Тиму: — Ты отцу скажи, ежели он партийный, пусть строже за всеми поглядывает, А то как пачпут перевязку делать, сымут с меня бинты и в помойное ведро бросают. Не такое теперь время, чтобы мануфактурой кидаться. Их постирать да снова в дело. Больницу, говорят, народ строил, и даже стекла для окошек с партийных собрали. Надо, значит, здесь ко всему с умом, с бережливостью, а то гляжу сквозь щелки в ширму, один тут на койке косоротый лежит, ему наказали десять капель в ложку лекарство капать, а он полную хлебает. Нешто ему одному охота здоровым быть? Так на всех лекарства не напасешься. Обрадовался, что даром, — лакает, словно воду.
Действительно, Тима заметил, что при обходе врача некоторые больные, до этого бодро игравшие в шашки, поспешно залезали под одеяла, притворялись слабыми и начинали умильно вымаливать, чтобы им давали побольше лекарств. Провизор предупреждал больных:
— Лекарство надо принимать только строго по рецепту. Одна лишняя доза делает вещество не лекарством, а ядом.
Но некоторые больные не только выпивали свое лекарство, но выпрашивали его у других и даже меняли на сахар.
Папа по этому случаю изрек:
— В подобном явлении есть две стороны: одна представляет несомненную опасность для организма, и надо принять соответствующие меры; другая сторона приятная и ободряющая: значит, люди стали верить в целебную силу медикаментов. До революции я больше сталкивался с другим: люди считали лекарства ядом и предпочитали лечиться собственными, часто крайне вредными средствами.
С каждым днем в больницу прибывало все больше больных, и папа ходил печальный, потому что в Совете ему сказали: обходитесь своими силами.
Узнав, почему комиссар стал такой понурый, ходячие выздоравливающие провели собрание и постановили помочь народной больнице.
На следующий день больной язвой желудка жестянщик вместе с двумя туберкулезными каменщиками полезли на крышу больницы и содрали шесть листов кровельного железа, а вместо него обшили кровлю плахами с забора. Из этого железа жестянщик сделал бадейки для еды и бачки для кипяченой воды. Плотник поручил родственникам в следующую передачу принести ему инструменты и из заборных досок с помощью других больных сколотил дополнительные топчаны и табуретки, а болеющий тяжелой грыжей маляр выкрасил их, сидя на постели, краской.
В каждой палате больные выбирали старост, которые следили за порядком, за сбережением больничного имущества.
Возникла даже "временная партийная ячейка" из находящихся на излечении коммунистов, и члены этой ячейки по очереди проводили громкие читки газет. Они же посылали письма в партийные ячейки своих предприятий, ремесленных артелей с просьбой помочь больнице.
Ляликов бранил папу:
— Петр Григорьевич: вы с этими вашими партийными мероприятиями превратили больницу черт знает во что! Вы как медик обязаны ограждать больных от всяких внешних раздражителей — это является неукоснительным законом для всякого врача. Собрания в больнице — ото же недопустимо и чудовищно! Всякое нарушение режима подобно преступлению.
И начинал сыпать изречениями из трудов великих медиков, произнося имена Бехтерева, Пирогова, Боткина, Мечникова с таким же благоговением, с каким папа упоминал имена Маркса, Энгельса, Ленина.
Папа, виновато моргая, оправдывался:
— Павел Ильич, я разделяю ваши медицинские воззрения полностью. Но поймите, дорогой, социальный уклад нашего общества и его новые обычаи проникают и в больничные условия. Этого нельзя не приветствовать, не говоря уж о тех практических результатах, которых мы благодаря этому достигли.
— А я не желаю, — раздраженно кричал Ляликов, — быть объектом издевательств всех городских эскулапов!
Довольно я уже пострадал от них в свое время!
— Но сейчас другое время, — возражал папа. — И это та реальность, с которой они будут вынуждены считаться, уверяю вас.
И хотя Ляликов несколько раз клялся, что ноги его больше не будет в этом "политическом балагане", папа ходил счастливый и спокойный. А когда проверял пульс у какого-нибудь больного, вдруг начинал жать и трясти ему руку, повторяя взволнованно:
— Вы просто замечательный человек!.. Представьте, печь так дымила, и вдруг чудо — перестала! Весьма благодарен! — Потом, приложив ухо к впалой груди печника, говорил с огорчением: — Однако, голубчик, у вас шумков прибавилось. Я вам запрещаю заниматься здесь какимлибо физическим трудом. Пожалуйста, проследите за ним, — просил он старосту палаты.
Папа говорил, что в самодеятельности больных он видит нечто новое, замечательное. Тима же относился к этим вещам гораздо проще. Ему казалось, что иначе и не могло быть. Раз больница народная, то сам народ должен о ней заботиться. Но только есть люди хорошие и плохие.
Вот Курочкину, который уговорил провести первое собрание больных, смолокур, хворающий водянкой, сказал угрожающе:
— Пущай бары-врачи сами топчаны сколачивают. Теперь наш черед за них отдыхать. А ежели у тебя штопки на брюхе, так ты лучше лежи в спокойствии. Будешь на народ кричать, смотри, как бы кишка не лопнула. Отнял у людей хлеб, а тут спокойствие у других отнимаешь.
Среди городских обывателей, лежавших в больнице, было немало таких, которые тайком отливали в пузырьки про запас лекарства, а навещавшим их родственникам совали больничные ложки, полотенца, миски, а потом жаловались сестре, будто их украл кто-то в палате.
Пойманный на краже простыни с постели тяжелобольного сиделец из торговой бани, хворающий острым ревматизмом, по приговору общего собрания палаты был выписан из больницы. Ляликов возмутился этим, утверждая, что больной человек даже при царе не мог быть предаваем суду и подвергаться наказаниям. Но папа сказал ему твердо:
— Здесь вы, Павел Ильич, ошибаетесь. Меня забрали в тюрьму на второй день после операции гнойного аппендицита. И в камере у меня разошлись швы.
В палате говорили про банного сидельца:
— Если б он один такой, а то их много, которые с народного урвать хотят. Он, что думаешь, вор? Нет, он себя чистым считает. Казенное значит, тяни, если глаза на него нет. Разве сразу на общую вещь понятие приспособишь? Казенное, и все!
Тиме казалось странным, что эти люди только сегодня утром чуть было не избили сидельца за простыню, а вот прошло несколько часов, и они толкуют о нем без злобы, словно пытаясь найти ему оправдание. А когда Тима сказал об этом ремонтнику с затона Завалишину, тот заметил, подумав:
— Так ведь хорошие, крепкие люди пока по самому краешку сбились, а копнешь вглубь — тина. Время надо, чтобы она на свету пообсохла. Я, скажем, в больницу от самой крайности попал. Идет кровь горлом и идет. Шаркну подпилком — и слабну. А вот в палате личности есть, которые только из-за того сюда подались, что еда дармовая. Но я их не трогаю, — ничего, потерпим их. Все ж домой придут, скажут, что революция к ним заботу проявила.
— Вы очень добрый? — спросил Тима.
— Нет, зачем? — нахмурился Завалишин. — С того кровь горлом и текет, что легкие мне отбили. Это когда я офицеришку убил, который карателями командовал. Меня за это солдаты топтали, пока наши ребята не подоспели, и прибавил сухо: — К настоящему злодею я беспощадный. Оттого и в трибунал избрали, что нет во мне ничего сладкого да мягкого.