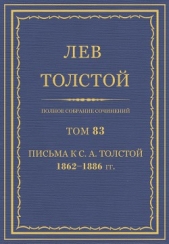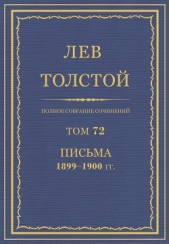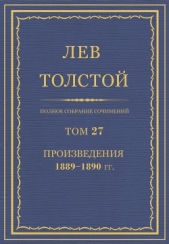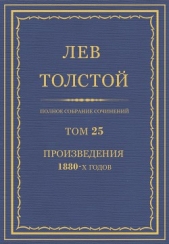Полное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты

Полное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нутка, Васюк, трубочку за это, — сказал он, проходя мимо, своему денщику, но шутливый тон его голоса был неестественен. Он закурил трубку и подошел к одному из костров. [2142]Солдаты потревожились для офицера.
<— Сиди, сиди, — поспешно проговорил он, подержал одну ногу над огнем, потом другую.
— Так сожжете товар, ваше благородие, — сказал один из солдат, жаривший голое тело у огня и потому, благодаря теплу, находившийся в самом веселом состоянии духа. — Пожалуйте, как высушу, за первый сорт.
— Не к чему, — сказал [2143]Ананьев, улыбаясь и морщась, и как человек, не знающий что с собой делать, куда деваться, отошел от костра к орудиям. [2144]
Тут он был один. Он остановился у первого из них, рассеянно лаская маленькой, нежной рукой ровный и гладкий круг медного дула пушки, и глубоко задумался.
[2145]Ананьев был известен между своими товарищами за рассеянного чудака, плохого фронтовика, но за доброго товарища, безобидного чудака и человека вольнодумного, зачитавшегося книгами и зафилософствовавшегося. В самом деле, [2146]Ананьев много читал и еще больше думал. Он думал не оттого, что он хотел думать, а оттого, что не мог не думать, хотя мысли его часто тяготили его. Теперь, стоя у орудий, он думал о том, что его непременно убьют нынешний день, и что такое будет смерть? «Неужели ничего от меня не останется?» [2147]— спрашивал он сам себя. «Голевский по старшинству [2148]примет дивизион. А меня не будет, а от меня ничего не останется. Да где же я буду в ту минуту, как меня убьют? За секунду я был еще, я страдал, и вдруг от меня ничего нет. И меня нет, а всё останется без меня. Нет. Этого не может быть. А убьют — это наверное. Иначе бы не было со мной этой тоски, второй день уже мучающей меня. Они говорят: «душа улетит к небесам!» Положим, это суеверие, на небесах атмосфера одна, но они хотят сказать, что душа не погибнет и пойдет к богу, к творцу всего. А ежели так, то почему же эта душа, моя душа во мне теперь так боится смерти, тогда как смерть только освободит ее из этой плотской оболочки? Она бы должна была радоваться. А она боится и страдает. Я — моя душа — боится, изныла от страха. Что ж это значит? Не то, не то.
И как же они говорят: душа пойдет к богу милосердному, всемогущему? Где же этот бог теперь, когда он допускает эти тысячи людей делать зло, убивать друг друга? Да, отчего же я боюсь? боюсь и не могу преодолеть этого страха. Отчего я мучаюсь этим страхом, а Васюк смеется у костра? Нет, не то. Вот ему нужно мне было сказать неприятное при других офицерах» — думал он, вспоминая штаб-офицера, выгнавшего его из Грунта. «Зачем же бог не вложил в душу любовь ко всем, а вложил в них злобу и страсти? Вот кончится перемирие и начнут на этом самом месте убивать друг друга, изранят, убьют людей, убьют меня, убьют непременно. Зачем бог, который всемогущ, допустил до этого? Зачем начало зла царствует, когда бог милосерд и всемогущ? Он мог бы избавить свои творения от страданий. И худшего из всех страданий — страха смерти. Зачем же царствует зло и смерть, и страх смерти, когда душа бессмертна?» — думал он и опять его мысль, как свернувшийся винт, мучительно возвращалась назад к [2149]вопросу о том, что такое смерть и что может быть после нее. И опять он вздрагивал от ужаса смерти, которую он, ему казалось, предчувствовал. «Сказаться больным, отказаться и уехать», думал он, «какое бы это было счастие. Но уж поздно. [2150]И как я пойду, как я скажу это. Я не могу, не умею обмануть. Пойти к Белкину», сказал он сам себе, как будто стряхивая неотвязчивые мысли и, отойдя от орудий, пошел на своих неловких ногах в всхлипывающих сапогах, раскатываясь по грязи, направо под гору.
Белкин был молодой ротный командир 6-го егерского, любимец солдат и начальства. [2151]Ананьев узнал его во время похода [2152]и, сам не зная почему, полюбил его больше всех своих друзей. [2153]Он пошел по фронту пехоты.
В одной роте> большой толпой с жадными лицами стояли солдаты около ротных котлов и кашеваров. И, как стая голодных собак, поглядывали на кашу и друг на друга, ожидая прихода [2154]фелдвебеля, вероятно понесшего пробу в балаган ротного. [2155]
В другой роте, где, теснясь, стояли <солдаты> около рябого, широкоплечего фелдвебеля у ротной повозки, каптенармус нагибал лежавший на столе боченок с водкой и наливал в крышки манерок, которые поочередно подставляли солдаты роты. Фелдвебель торжественно и значительно смотрел на водку и на солдат, которые, щуточками стараясь скрыть свое волнение, теснились один за другим и с набожными лицами подносили, большей частью дрожащей рукой, ко рту крышки манерок; они выливали разом в рот вино и отходили с повеселевшими глазами, полоская обе стороны, обтирая губы рукавами шинелей. [2156]
21.
<Ананьев хотел итти в балаган ротного, когда к пьющим солдатам, с противуположной стороны от [2157]Ананьева, подошел красивый, стройный офицер. Это был Белкин. Он был человек лет двадцати восьми, высокий, стройной, во всей силе и сочности молодости, румяный, с улыбающимися глазами и крупными, ласковыми, румяными губами. В противуположность [2158]Ананьева, он был одет чисто, успел или съумел высушиться. В быстрой и легкой походке его видна была веселая и предприимчивая решительность.
— Здорово, ребята! — проговорил он, не замечая Ананьева, звучным тенором ни громко, ни тихо, а в тон общих звуков.
— Здравия желаем, ваше благородие! — прокричали человек двадцать.
— Вот молодецкая душа, — проговорил про себя [2159]Ананьев, глядя на Белкина. — Его не мучают мои сомнения и страх. Но что бы я дал, чтобы знать — всё знать, что теперь в этой молодецкой душе.
— Много ли рядов? — спросил улыбаясь Белкин (он всегда немного улыбался). Белкин говорил тоном человека, не любящего говорить много с подчиненными, но ожидающего положительного, ясного ответа.
— Тринадцать, — отвечал фелдвебель.
— Кого еще нет?
Солдаты всё толпились и сзади засмеялись. Белкин оглянулся, всё улыбаясь. Но в рядах затихло и подходивший солдат имел набожное выражение, когда приблизился к чарке.
— Соврасова, Петрова, Миронченка, — докладывал фелдвебель. — Миронченко точно заболел, в самую бурю, как деревню проходили, он придет, я ему сам вчера приказал остаться. А тот бестия Захарчук так балуется, я велел ему на повозку сесть, так нет, упал. Дрянь солдатишка.
В это время подходил к водке узенький, тоненький, с ввалившейся грудью, жолтым лицом и жолтым, вострым, носиком молодой солдатик, казавшийся олицетворением голода и слабости. Но несмотря на жалость, возбуждаемую наружностью этого солдата, в собранном, как кисет ротике, в бегающих покорных глазах было что-то такое смешное, что фелдвебель, как бы прося позволения пошутить, посмотрел на ротного и, заметив на его лице улыбку, сказал:>
— Вот Митин наш не отстал, пришел вчерась, — говорил фелдвебель, улыбаясь и указывая на проходившего к водке подергивающегося востроносого, худого солдатика, — его всё Бондарчук за штык волок.