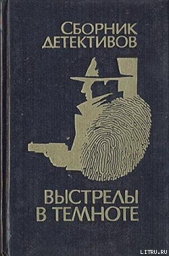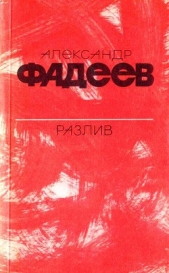Киносценарии и повести

Киносценарии и повести читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И тут Галина Алексеевна воображает вдруг, что коллеги и начальство, подчиненные и подопечные видят ее в настоящую минуту: вот такую - неподтянутую, расхристанную, сидящую за одним столом с грязным, ободранным диссидентом, держащую полный стакан водяры, - но странно: фантазия эта не покрывает нашу героиню липким, холодным потом ужаса, а, напротив, дразнит, забавляет, манит подмеченным еще Пушкиным упоительным ощущением бездны мрачной на краю, - и Галина Алексеевна как-то особенно азартно, демонстративно опорожняет единым духом стакан, а потом, когда видение исчезает, ничего страшного, думает под тяжелым, непрерывающимся взглядом собутыльника, нужно же, наконец, разрушить психологический барьер между нами! Трезвый пьяного не разумеет. Или как там: наоборот?
Жгучее, в таком количестве совершенно непривычное тепло добирается до желудка, и мрачная бездна сообщнически подмигивает кошачьим своим зраком. Свечи, скатерть, хрусталь и серебро с достоверностью галлюцинации возникают в мозгу Галины Алексеевны при взгляде на разделяющий их с Яриком красный пластик кухонного стола, - играют, переливаются разноцветными искрами, - и то давнее, неимоверное желание обдает ее всю жаром.
Наконец, художник, оголодавший в неизвестно котором по счету и снова неудачном браке, утоляет аппетит и продолжает предаваться мучительным философским поискам, по привычке последних лет интонируемым, преимущественно, вопросительно. Ну почему, дескать, к ним, на Кузнецкий, народу ходит больше чем к нам (хотя он не состоит и в группкоме графиков, - а все-таки: к нам) на Грузинскую? Или: куда подевались, куда сгинули времена бешеной популярности неофициальной живописи, легендарные времена Измайлово и "Пчеловодства", и почему он, дурак, в ту пору там не выставлялся, а рвался в Союз? Или, наконец, почему ни худфонд, ни эти сраные (при слове сраные Галина Алексеевна непроизвольно морщится, демонстрируя, что слышит его не впервые в жизни) миллионеры не желают покупать произведений его, Ярика, незавербованного искусства? Почему даже в несчастный салон Юны Модестовны не может он пристроить и пары своих холстов?!.
Почему худфонд - Галина Алексеевна знает из первых рук: там более способностей и даже ее протекции требуются совершенно несвойственные нашему Модильяни покладистость, терпение, выдержка и политическая тонкость в искусстве интриги. Самое смешное, что те же качества, даже в сильнейшей степени, требуются, оказывается, и в мире диссидентском, - но об этом Галина Алексеевна, не читающая, - хоть и невредно было бы ей по службе, - ни "Третьей волны", ни "АЯ", а лишь наслышанная о нехорошем сем мире с тенденциозного голоса любимой своей заокеанской радиостанции, не только не знает, но даже и не догадывается: диссидентский мир вообще представляется ей не менее таинственным, чем загробная жизнь. Впрочем, привыкшая, как мы уже заметили, к глухой монологичности яриковых сомнений, она вовсе и не собирается на них реагировать. Поэтому настойчиво-напористое (Боже! почти как в те времена!) требование художника ехать сейчас же, сию же минуту, к нему в мастерскую, где и ответить, наконец, окончательно и бесповоротно лицом к лицу с картинами на все проклятые, мучащие его вопросы, - застает ее совершенно врасплох и, подкрепленное зовом пресловутой бездны, любовью и алкоголем, серьезного сопротивления не встречает.
Тем более, что том всемирки, чтение которого сорок минут назад прервал Ярик, - том этот, сто первый по счету, - оказывается Эдгаром По.
Склонив голову, и все же касаясь перманентной макушкою потолка, а под огромными, пыльными, асбестом укутанными трубами складываясь и в три погибели, шла Галина Алексеевна, предводительствуемая Яриком, по коленчатому подвальному коридору мимо выпиленных из фанеры, вырезанных из пенопласта, отчеканенных на жести силуэтов Вождя Мирового Пролетариата, мимо разнокалиберных досок почета, мимо щитов соцобязательств, мимо лозунгов и серий портретов членов Политбюро, - шла в святая святых нашего художника. Открывшаяся ее взору огромная, в центре освещенная голой двухсотсвечовкою, в углах чем-то шуршащая и копошащаяся безоконная комната и была яриковой мастерскою: вместе с сотнею рублей ежемесячного жалования, выплачиваемого одним из московских ЖЭКов, составляла она награду за идеологический труд, продукцию которого Галина Алексеевна видела по пути. Ярик, несколько долгих лет буквально загибавшийся без мастерской вообще, ни перед диссидентствующими, но часто вполне преуспевающими друзьями-приятелями, ни, тем более, перед Галиною Алексеевною за продукцию эту не оправдывался и не извинялся, ибо считал вынужденную свою работу на ниве идеологии, работу, дающую в остальных отношениях почти безграничную свободу творчества, делом в нравственном отношении пусть не похвальным, но не столь и предосудительным: каждая, дескать, цивилизация имеет свои символы и обряды, свои, так сказать, формальности, серьезного значения которым ни один нормальный человек никогда не придаст, вот как, например, моде.
Будь мастерская несколько менее обширною, мы рискнули б сказать, что картины заполняют ее: чувствовалось, как много их, потерянных в обводящем углы мраке: больших и маленьких, туманных и веселеньких, масляных и гуашевых, на холсте, на картоне и даже на оргалите. Ну вот! выдохнул Ярик, поставив бутылку с остатками водки на стол (несмотря на настояния Галины Алексеевны, он, покидая ее дом, с бутылкою расстаться не пожелал категорически) и зажег пару позаимствованных где-то на стройке прожекторов. Смотри. Оценивай. Ты ж как-никак специалист.
"Как-никак" задело Галину Алексеевну, и лицо ее озарилось неким особым сладострастием, которого Ярик до сих пор никогда на этом лице не замечал, которого даже и заподозрить на нем не мог, - сладострастием неограниченной власти над так называемым искусством, неподвластным, как любят его создатели самодовольно считать, никому кроме них и Бога, - и, хоть в то же мгновенье она одернула себя, согнала с лица предательское предвкушение, Ярик уже казнился, мятался и готов был, казалось, собственным телом броситься на смертоносные амбразуры глаз любовницы. Ничего уже, впрочем, поправить было невозможно, во всяком случае, по ярикову не то что деликатному, а не слишком как-то твердому характеру, разве вот суетливо разлить по нечистым стаканам остатки "Сибирской".