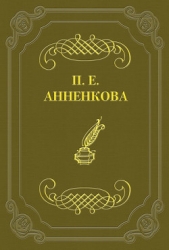На рубеже Азии. Очерки захолустного быта
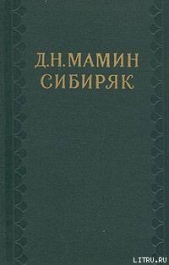
На рубеже Азии. Очерки захолустного быта читать книгу онлайн
Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.
В первый том вошли рассказы и очерки 1881–1884 гг.: «Сестры», "В камнях", "На рубеже Азии", "Все мы хлеб едим…", "В горах" и "Золотая ночь".
Мамин-Сибиряк Д. Н.
Собрание сочинений в 10 т.
М., «Правда», 1958 (библиотека «Огонек»)
Том 1 — с. 169–244.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Перестань, мама… Ты плачешь… точно Аполлон умер. Ведь живут же другие люди, — не всем кончать курс в семинарии и быть священниками.
Мать была поражена этими словами, она совсем не ожидала этого от сестры, которой руководил теперь тот женский инстинкт, благодаря которому женщина всегда скорее найдется, что нужно делать в критических обстоятельствах, чем мужчина.
Я со страхом ожидал следующего дня, но он оказался легче, чем я думал. Рано утром брат ушел куда-то и вернулся вместе с Меркулычем, присутствие которого теперь очень обрадовало меня. Бывают такие положения, когда оставаться с глазу на глаз в своей семье делается невыносимым, и в эти тяжелые минуты присутствие постороннего человека снимает половину тяжести, хотя этот посторонний человек ничем не может помочь вам и слова его утешения вы слушаете иногда из простой вежливости, а между тем, совершенно незаметно, именно это бесполезное слово участия воскрешает вас. Так было и теперь, и, как я узнал после, брата послала к Меркулычу та же простенькая Надя, догадавшаяся раньше других, чем помочь горю и как успокоить отца, когда он проснется.
Итак, Меркулыч явился к нам и, сидя на лавке, осторожно покашливал в руку, в гостиной слышались тяжелые шаги, глубокие вздохи и кашель, наконец, в дверях показался отец, постаревший за ночь на несколько лет.
— А, это ты пришел… — совершенно равнодушно проговорил отец, точно он был уверен найти Меркулыча здесь.
— Да-с, пришел проведать вас, отец Викентий…
— Да, братец, обзатылили отца Викентия, совсем обзатылили!
— Зачем-с, отец Викентий… Это вы даже совершенно напрасно-с… Ей-богу, так-с.
В затруднительных случаях Меркулыч имел привычку прибавлять к каждому слову «с» и постоянно утирал лицо платком, как-то забавно отдувая свои розовые щеки. Один вид этого свежего, довольного человека подействовал хорошо на отца; он взял его под руку и увел в гостиную.
— Так ты говоришь, что напрасно? — спрашивал он Меркулыча то самое слово, которому он не верил.
— Совершенно даже напрасно-с, отец Викентий, — покашливая, отвечал Меркулыч: — Сгоряча оно точно иногда горячку порешь, а потом одумаешься… Вы рассудите так: вот вы сами отличный аттестат имеете, кончили курс в семинарии, а какое ваше положение?..
— А-ах, Меркулыч, Меркулыч! — застонал отец. — Ведь меня кто придавил: Амфилошка Лядвиев… Да!..
— Амфилошка Амфилошкой-с, отец Викентий, а и сами вы не правы, — вкрадчиво заговорил Меркулыч, раскуривая папиросу и усаживаясь на кончик стула, причем он бережно загнул фалды своего казинетового пиджака. — Да, вы сами не правы.
— Я? Не прав?!.
— Да-с, — по-прежнему кротко отвечал Меркулыч, пуская с необыкновенным искусством колечко синего дыма. — Сделаемте такое рассуждение, отец Викентий: вам встал поперек дороги консисторский секретарь Лядвиев и не дает ходу, а вы бы собрались как-нибудь, да рыбки ему пудик послали, шишечек кедровых, чайку фунтик…
— Да я ему, подлецу…
— Позвольте, отец Викентий, — мягко остановил отца Меркулыч. — Я хочу сказать, что вы не хотите покориться под Лядвиева и оказать себя подлецом… Так-с?
Отец понял, к чему клонились подходцы Меркулыча, посмотрел на него и, улыбнувшись, проговорил:
— А ведь ты умным человеком оказываешь себя… Извини, брат, не ожидал… Ты, значит, только по виду-то прост кажешься?
— Уж как мать родила-с, отец Викентий, — нисколько не обидевшись грубоватой откровенностью отца, отвечал с улыбкой Меркулыч. — Без хитрости по нонешним временам даже совсем невозможно-с: курица, и та норовит заклевать тебя. А я, собственно, к тому веду речь, что вы напрасно изволите так сокрушаться об Аполлоне Викентьиче: может, у них судьба такая. А я, грешный человек, иногда смотрю на вас, и вчуже мне жаль вас делается: человек вы образованный, с головой человек-с, и вдруг Лядвиев вас заключает в Таракановку… Вот я маленький человек, а я счастливее вас, потому я вольная птица: не захочу служить, буду торговать, и никто мне ее указ. И выходит, что при моей глупости мне не в пример легче вашего жить. Теперь возьмем Аполлона Викентьича: образование они для себя получили достаточное, поступят на завод, а лет через пять-шесть, глядишь, будут получать жалованья вдвое больше нашего. Человек он аккуратный, можно сказать, вполне самонадеянный, начальство увидит ихние труды, вот вам и отлично всем будет. Притом вот теперь Кира Викентьича тоже нужно в науку посылать, деньги нужны-с, а на двоих-то у вас, пожалуй, и недостало бы: и лета ваши не такие и здоровье слабое. А теперь что-с? Аполлон Викентьич поведут себя в лучшем виде-с и не только свою голову будут пропитывать, а и вам помогать станут за ваши заботы о них. Вот и выйдет так, что и вам будет лучше-с, и Кир Викентьич будут происходить свою науку-с… Да-с! Вы уж извините меня, отец Викентий, а я вам даже откровенно скажу-с, что нынче быть молодому человеку священником даже не в моде-с…
— Ну, это, брат, положим, что ты и врешь, а все-таки не ожидал… Нет, не ожидал в тебе такой прыти! Ты молодец… В самом деле: черт с ними со всеми!.. Наплевать!..
— Совершенно верно-с. Ведь шесть лет нужно было тянуть лямку-то и на вашей шее при этом…
— Веррно!..
— Оно сначала и мне это обидно показалось, а потом обсудил я это самое дело: не стоит-с!..
— Не стоит шкура выделки?
— Так точно-с.
Мать слышала весь этот разговор и с веселым лицом вошла в комнату.
— А я ведь то же самое думала, Викентий Афанасьич, — проговорила она: — разве уж только и свету в окне, чтобы в священники поступить…
Мы все собрались в гостиной, явился самовар, и в комнате раздался веселый говор и самый беззаботный смех: туча прокатилась; Аполлон рассказывал о своей поездке, о п-ской семинарии, профессорах и экзаменах. Отец смеялся вместе с другими и рассказывал о том, как сам учился в семинарии. Повторяя вечную историю об Амфилошке Лядвиеве, отец говорил уже в шутливом тоне:
— Подлец он, Амфилошка… А ведь вместе двенадцать лет учились… на одной парте сидели! А вот теперь придавил меня ногой, и баста… Думает: задушу, а может, бог-то и не оставит меня именно за его, Амфилошкину, неправду… Так?
— Злохудожественный человек, отец Викентий, — прибавил Меркулыч, поправляя розовый галстучек на шее.
VI
В августе месяце я расстался с Таракановкой и поступил в четвертый (последний по прежним порядкам) класс уездною духовного училища, находившегося в заштатном уездном городишке Гавриловске, при знаменитом Гавриловском монастыре. От Таракановки до Гавриловска было больше двухсот верст, и до губернского города Прикамска от Таракановки считали четыреста верст; притом жизнь в Гавриловске была вдвое дешевле, чем в «губернии», поэтому отец и отправил меня туда. Первое, что мне бросилось в глаза еще дорогой, это то, что по мере приближения к Гавриловску местность все понижалась, делалась ровнее, вечнозеленый дремучий хвойный лес сменился лиственными породами с их бледной зеленью, к которой совсем не привык мой глаз, и, наконец, потянулись волнистые оголенные равнины Зауралья, в центре которого стоял Гавриловск с своим монастырем. Этот город был просто деревня с несколькими церквами, и я сразу возненавидел его и в первый раз горько заплакал о своей милой Таракановке, потерявшейся в широком просторе Уральских гор. Все то, что раньше не имело для меня никакого значения, чего я даже не замечал, теперь тянуло меня с непостижимой силой к себе; особенно сильно тосковал я об уральских лесах, по которым бродил с Меркулычем; даже заводская фабрика с ее сажей, пылью, вечным грохотом казалась мне каким-то раем в сравнении с этими бесконечными полями, на которых глаз не находил ни одной высокой точки и которые шахматной доской зеленых озимей и только что сжатых полей уходили в бесконечную даль.
Самое училище помещалось в монастыре, за его толстыми стенами, видевшими башкирские бунты и пугачевщину. Прежде всего я явился к архимандриту Иринарху, настоятелю монастыря и смотрителю духовного училища; это был высокого роста, еще очень молодой и в высшей степени красивый монах с длинными, белыми, как молоко, руками и с полузакрытыми ленивыми глазами. Он принял меня с такой важностью, что у меня похолодело на душе от предчувствия чего-то недоброго; на экзамене я отвечал бойко, но Иринарху больше всего не понравилась моя заводская развязность в сравнении с деревенскими поповичами, которые только потели со страху и дрожали, как в лихорадке.