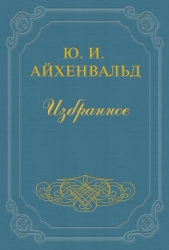Путешествие Глеба

Путешествие Глеба читать книгу онлайн
В четвертом томе собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) печатается главный труд его жизни – четырехтомная автобиографическая эпопея «Путешествие Глеба», состоящая из романов «Заря» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950) и «Древо жизни» (1953). Тетралогия впервые публикуется в России в редакции, заново сверенной по первопечатным изданиям. В книгу включены также лучшая автобиография Зайцева «О себе» (1943), мемуарный очерк дочери писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб «Я вспоминаю» и рецензия выдающегося литературоведа эмиграции К. В. Мочульского о первом романе тетралогии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Вот видите-с, – обратился к Глебу, с вежливо-покровительственной улыбкой Геннадий Андреич. – Я всегда полагал, что Карл вам подходит и будет даже полезен.
Сам он считал, что и Карл, и Глеб каждый в своем роде со странностями. Один носится с Данте, другой примыкает к «новой-с» литературе, «делает вид», что понимает «самоновейшего психопата с нелепым прозвищем Андрей Белый».
Эта «новая литература», к которой Глеб отчасти и себя причислял, могла бы послужить поводом к раздору для него на Земляном валу, но не послужила. Глеб охотно пил с Геннадием Андреичем Вгапе Cantenac, охотно слушал рассказы о Рейнаке и поддельной тиаре Сайтаферна, изготовленной в Одессе, почтительно рассматривал медали, в которых ничего не смыслил, но Геннадий Андреич тоже понимал, что этот будто бы скромный и вежливый студент с весьма малыми познаниями очень самолюбив и упрям, в некоторых вещах совсем не уступит и задевать его не надо. Глеб тоже не приставал к нему с Блоком и Белым, а когда Геннадий Андреич восторгался «Русланом и Людмилой» на сцене («каждый раз хожу-с»), Глеба это не раздражало.
Вооруженный мир продолжался. И весьма тем поддерживался, что Глеб занят был писанием своим и любовью, а Геннадий Андреич монетами царя Митридата.
Развод Элли кончился, подошло время брака. Венчание так и устроилось, как предвидел Геннадий Андреич: без всяких оповещений.
На Земляном валу да и в Прошине о нем узнали, когда оно уже совершилось. За сокрытие Геннадий Андреич довольно долго дулся. Виновные не бывали временно в доме у Ильи-Пророка, но потом произошло объяснение. Глеб волновался и убеждал, что «никак не хотел обидеть, но думал, что просто это неинтересно». «Неинтересно!» Геннадий Андреич был поражен. Такого взгляда на дело он еще не встречал. «Ну, да у них, у молодых, все по-особенному». И это его успокоило.
Понемногу все и прошло и забылось, снова стали бывать. Земляной вал все прочнее входил в жизнь Глеба. Занимал меньше места, чем Прошино, все-таки занимал.
А теперь, вытянувшись, на мягком ложе вагона, неторопливо катившего его к Себежу, Глеб, усталый, замученный последними днями в Москве, все-таки навсегда увозил с собой все облики прошлого, не говоря уже о матери и отцовской могиле, Собачке, но и Геннадия Андреича и дядю Карлушу, Агнессу Ивановну и приживалок, и множество тех мелочей, которые казались иногда и неважными, но из них складывался весь план бытия его.
Разве не важно было то лето перед войной, которое провели они с Элли целиком как раз в доме на Земляном валу? Геннадий Андреич уезжал в Крым на два месяца – Элли была несоразмерно толста, ходила в широчайшем капоте, но веселая, оживленная. Они занимали небольшую зеленую гостиную, обращенную теперь в кабинет Глеба, и жили счастливо. В книжных шкафах за стеклами книги Геннадия Андреича – переплеты их основательны. Наверху маска Петра Великого выпучивала белые, страшные глаза. Окно выходило в тот сад, где Элли девочкой посадила желудь – из него вырос теперь славный дубок. Росли там и клены, и липы, и сквозь зелень их лилось золото погожего лета. Зеленовато-золотистые струи его ложились в комнату с зеленым бархатным диваном, наполняли прелестью прозрачного полумрака. Здесь целыми днями работал Глеб над своей рукописью, а рядом в зале, под копией Каналетто, Элли перестукивала на машинке написанное.
В доме, кроме них, жила только Агнесса Ивановна, топившая их в поцелуях.
Из этого дома ездили иногда по вечерам на Тверской бульвар в маленькое кафе грека Бляциса и сидели в тени дерев, и встречались с юными своими приятелями из литературной богемы – пили турецкий кофе в крошечных чашечках.
И однажды, когда выходили, некто сказал, обернувшись на Элли:
– Вот поэтому-то в Москве и растет население!
А в один светлый августовский вечер, в тот самый, когда Глеб поставил точку в последней фразе рукописи, Элли увезли к Красным воротам, где дядя Штраус, муж тети Лоты, известный в Москве гинеколог, устроил ее в своей лечебнице.
Мог ли бы Глеб забыть о тех часах, когда вместе с Агнессой Ивановной сидел он в гостиной у телефона и ждал звонка, и наконец, ровно в полночь раздался он. Голос из лечебницы сказал:
– Благополучно, девочка.
Эта девочка, с порядочными уже косичками, сидела теперь у окна в вагоне. Подъезжали к Себежу. Поезд остановился. Прошли таможенники. Потом он тронулся и явились другие. Они тоже рылись и спрашивали. Но и они ушли. Поезд постоял, постоял, да и двинулся.
– Мама, теперь Россия кончается?
Элли лежа на нижнем диване, тоже в изнеможении.
– Кончается. А что?
– Нет, радость моя, ничего.
Таня вышла в коридор. В сквозняке покачивались ее косички. Ленточки на концах трепетали. В руке у нее были две незабудки, остатки того, что им поднесли на вокзале.
Она постояла у открытого окна и возвратилась. Незабудок не было больше в ее руке.
– Россия теперь кончилась, – сказала она. И отвернулась.
Берлин
В пансионе фрау Бок на Тауэнцин-штрассе мебель в чехлах, полы сияют – пахнет жареным кофе.
Элли раскладывает вещи из чемодана в большой комнате – на столе портрет Вильгельма в рамке с засушенными цветами. Через коридор, в маленькой комнатке, поселился Глеб.
– Мы теперь тут и будем жить? – спрашивает Таня.
– Да, пока тут. А потом, наверно, поедем к морю. Правда, славная у нас комната?
Таня вежливо вздыхает.
– Да, отличная… Все-таки в Москве, пожалуй, была больше. И как бы спохватившись, добавляет: зато здесь гораздо чище.
– Вот твои книжки… «Серебряные коньки», «Лорд Фаунтлерой», Пушкин.
Таня покорно берет книжки, складывает их на столике и принимается помогать матери.
В том, что она говорила, все правда: хорошо и просторно, внизу в столовой отлично сидеть за отдельным столиком и, слава Богу, «радости моей» не надо самой готовить, подает все берлинская горничная в чепце и белом переднике. Это очевидность. Но под очевидностью нечто, что высказать ясно не могла бы она, а сидело в ней это прочно: все тут чужое, и так не похоже не только на Прошино, где летом она купалась в Апрани, гоняла в ночное лошадей и с девчонками распевала «Костромушку-Кострому», но даже и на последний год жизни в Москве (морозы, салазки, пайки, валенки, ушастая оленья шапка, хождение в школу, где девчонка спрашивала ее: «Твой папанька в кооперативе служит?» Таня отвечала внушительно: «Мой папа писатель». И однако же, там была Москва, Россия…).
А Берлин был Берлин, ни с каким Прошиным и Кривоарбатским ничего общего не имевший.
Первое время Глеб и Элли много бегали по Берлину этому, то с знакомыми русскими, то в одиночку – город хотя и серый, но как живо, свободно все, разные Кадевэ полны, сколько платья выставлено, обуви, толпа в Романишес кафе против Гедехтннс Кирхе, сколько цветов на Курфюрстендамме. Зелени вообще много – цветы на окнах, на верандах кафе, у входов в рестораны, целые фасады домов увиты ползучими растениями – это все Берлин. И не только сад-лес Тиргартен с вековыми деревьями, с той громоздкостью и размахом, что Пруссии свойственны, но и разные зеленые Лютцоф-Уферы и Кайзер-аллее, все полноцветно, кипуче и смягчает казарму Берлина.
Вечером, проходя по Тауэнцин-штрассе, в веселой толчее человеческой, под отблеском павлиньего заката за Гедехтнис Кирхе, Глеб испытывал иногда ту смесь оживления со щемящею грустью, которое и есть острое чувство жизни: да, свобода, писание и Европа, и даже этот шумный Берлин… – но и не он, от него тоже дальше.
Как в юности, бродя по полям Прошина, на закате, так теперь на Тауэнцин-штрассе… Италия! Так ли, иначе, в Италию надо пробраться.
А пока что ходили они с Элли по вечерам в кафе – Таня покорно засыпала одна, бывали и в ресторанах.
В одном из них некто Чашин, знакомый еще по Москве, почти вместе с ними и выехавший, заявил Глебу, что собирается на море, в Хагенсдорф, близ Штетина.
– Нечего тут сидеть, уверяю вас, – говорил он, поблескивая карими, влажными от нервного возбуждения глазами, – Хагенсдорф вам понравится. Лес, море, рыбаки, проста…