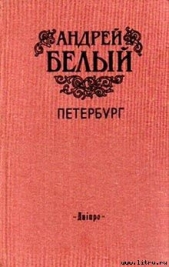Том 2. Петербург

Том 2. Петербург читать книгу онлайн
Андрей Белый (1880–1934) вошел в русскую литературу как теоретик символизма, философ, поэт и прозаик. Его творчество, искрящееся, но холодное, основанное на парадоксах и контрастах.
Во второй том Собрания сочинений вошел роман «Петербург».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но Аполлон Аполлонович не глядел на любимую свою фигуру: квадрат; не предавался бездумному созерцанию каменных параллелепипедов, кубов; покачиваясь на мягких подушках сиденья наемной кареты, он с волненьем поглядывал на Анну Петровну, которую вез он сам — в лакированный дом; что такое за чаем они говорили там в номере, навсегда осталось для всех непроницаемой тайной; после этого разговора и порешили они: Анна Петровна завтра же переедет на Набережную; а сегодня вез Аполлон Аполлонович Анну Петровну — на свидание с сыном.
И Анна Петровна конфузилась.
В карете не говорили они; Анна Петровна глядела там в окна кареты: два с половиною года не видала она этих серых проспектов: там, за окнами, виднелась домовая нумерация; и шла циркуляция; там, оттуда — в ясные дни, издалека-далека, сверкали слепительно: золотая игла, облака, луч багровый заката; там, оттуда, в туманные дни — никого, ничего.
Аполлон Аполлонович с нескрываемым удовольствием привалился к стенкам кареты, отграниченный от уличной мрази в этом замкнутом кубе; здесь он был отделен от протекающих людских толп, от тоскливо мокнущих красных обертков, продаваемых вон с того перекрестка; и порхал он глазами; иногда только Анна Петровна ловила: растерянный, недоумевающий взор, и представьте себе — просто мягкий какой-то: синий-синий, ребяческий, неосмысленный даже (не впадал ли он в детство?).
— «Слышала я, Аполлон Аполлонович: вас прочат в министры?»
Но Аполлон Аполлонович перебил:
— «Вы теперь откуда же, Анна Петровна?»
— «Да я из Гренады…»
— «Так-с, так-с, так-с…» — и, сморкаясь, — прибавил… — «Да знаете ли, дела: служебные, знаете, неприятности…»
И — что такое? На руке своей ощутил он теплую руку: его погладили по руке… Гм-гм-гм: Аполлон Аполлонович растерялся; сконфузился, перепугался даже он как-то; даже стало ему неприятно… Гм-гм: лет пятнадцать уже не обращались с ним так… Таки прямо погладила… Этого он, признаться, не ждал от особы… гм-гм… (Аполлон Аполлонович эти два с половиною года ведь особу эту считал за… особу… легкого… поведения…)
— «Выхожу, вот, в отставку…»
Неужели же мозговая игра, разделявшая их столько лет и зловеще сгущенная за два с половиною года, — вырвалась наконец из упорного мозга? И вне мозга уже тучами посгущалась над ними? Наконец разразилась вокруг небывалыми бурями? Но разражаясь вне мозга, она истощилась в мозгу; медленно мозг очищался; в тучах так иногда вы увидите сбоку бегущий и лазурный пролет — сквозь полосы ливня; пусть же ливень хлещет над вами; пусть с грохотом разрываются темные облака клубы багровою молнией! Лазурный пролет набегает; ослепительно скоро выглянет солнце; вы уже ожидаете окончания грозы; вдруг — как вспыхнет, как бацнет: в сосну ударила молния.
В окна кареты врывалося зеленоватое освещение дня, потоки людские бежали там волнообразным прибоем; и прибой тот людской — был прибой громовой.
Здесь вот видел он разночинца; здесь глаза разночинца заблестели, узнали, тому назад — дней уж десять (да, всего десять дней: за десять дней переменилося все; изменилась Россия!)…
Леты и грохоты пролетавших пролеток! Мелодичные возгласы автомобильных рулад! И — наряд полицейских!..
Там, где взвесилась только одна бледно-серая гнилость, матово намечался сперва и потом наметился вовсе: грязноватый, черновато-серый Исакий… И ушел обратно в туман. И — открылся простор: глубина, зеленоватая муть, куда убегал черный мост, где туман занавесил холодные многотрубные дали и откуда бежала волна набегающих облаков.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В самом деле: ведь вот — удивились лакеи! Так рассказывал после в передней дежуривший сонный Гришка-мальчишка:
— «Я сижу это, да считаю по пальцам: ведь вот от Покрова от самого — до самого до Рождества Богородицы… Это значит выходит… От Рождества Богородицы — до Николы до Зимнего…»
— «Да рассказывай ты: Рождество Богородицы, Рождество Богородицы!»
— «А я — что? Рождество Богородицы деревенский наш праздник — престольный… Так что — будет: считаю… Тут слышь — подъехали; я — к дверям. Распахнул, значит, дверь: и — ах, батюшки! Так что барин сам, в наемной каретишке (и плохая ж каретишка!); так что с ним барыня лет почтенных в дешевеньком ватерпруфе.
— „Не ватерпруфе, пострел: нынче ватерпруфов не носят“.
— „Не смущайте его: он и так обалдел“.
— „Одним словом — в пальте. Барин же суетился: с извозчика — тьфу, с кареты — он соскочил, руку барыне протянул, — улыбается: кавалерственно эдак; всякую помощь оказывает“.
— „Ишь ты…“
— „То же…“
— „Я думаю; не видались два года“, — раздались вокруг голоса.
— „Само собой: барыня из кареты выходит; только барыня — вижу я — смущены при таком при случае: улыбаются там — не в своем в полном виде; себя самих для куражу: за подбородок хватаются; ну, бедно, скажу вам, одеты; на перчатках-то дыры; не заштопаны, вижу, перчатки: может, некому штопать; в Гишпании, может, не штопают…“
— „Рассказывай, ладно уж!..“
— „Я и так говорю: барин же, барин наш Аполлон Аполлонович, всякую авантажность посбросили; стоят у кареты, над лужею, под дождем; дождь — Бог ты мой! Барин ежится, будто на месте забегали, притопатывают на месте носками; а как барыня при сходе с подножки вся на руку на их навалилась — ведь барыня грузная — барин наш так весь даже присел; крохотного барин росточка; ну, куды же им, думаю, грузную такую сдержать! Силенки не хватит…“
— „Не плети белиндрясов; рассказывай“.
— „Я не плету белиндрясов; я и так говорю, да и што говорить… Тут вот Митрий Семеныч расскажет: они повстречали в передней… Что рассказывать-то? Барин барыне только всего и сказали: мол, милости просим, сказали — пожалуйте, мол, Анна Петровна… Тут я их и признал“.
— „Ну и что ж?“
— Постарели… Спервоначалу-то не узнал; а потом их узнал, потому еще помню: гостинцем кормила».
Так впоследствии говорили лакеи.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но действительно!
Неожиданный, непредвиденный факт: тому назад два с половиною года, как Анна Петровна уехала от супруга с итальянским артистом; и вот через два с половиною года, покинутая итальянским артистом, от гренадских прекрасных дворцов через цепь Пиренеев, чрез Альпы, чрез горы Тироля примчалась с экспрессом обратно; но всего удивительней то, что сенатору было нельзя заикнуться об Анне Петровне ни два с лишним года, ни даже тому назад — два с половиною дня (еще вчера он топорщился!); два с половиною года Аполлон Аполлонович сознанием избегал даже мысли об Анне Петровне (и все-таки думал о ней); самое звукосочетание «Анна Петровна» разбивалось о барабанную перепонку ушей точно так, как о лоб учительский разбивается брошенная из-под парты хлопушка; только школьный учитель по кафедре разгневанно простучит кулаком; Аполлон Аполлонович же поджимал презрительно губы при звукосочетании этом. Отчего ж при известии о ее возвращении обыкновенный поджим сухих губ разорвался в взволнованно-гневном дрожании челюстей (вчера ночью — при разговоре с Николенькой); отчего не спал ночь? Отчего в течение полусуток тот гнев испарялся куда-то и сменялся щемящей тоскою, переходящей в тревогу? Почему сам не выдержал ожидания, сам поехал в гостиницу? Уговаривал — сам: сам — привез. Что такое случилось там — в гостиничном номере; свое строгое обещание забыла и Анна Петровна: обещание это дала она себе — здесь, вчера: здесь в лакированном доме (посетивши его и никого не застав).
Дала обещание: но — вернулась.
Анна Петровна и Аполлон Аполлонович были взволнованы и сконфужены объясненьем друг с другом; поэтому при вступлении в лакированный дом не обменялись они обильными излияниями чувств; Анна Петровна искоса посмотрела на мужа: Аполлон Аполлонович стал сморкаться… под ржавою алебардою; испустив трубный звук, стал пофыркивать в бачки. Анна Петровна милостиво изволила отвечать на почтительные поклоны лакеев, проявляя сдержанность, которой мы только что не видели в ней; только Семеныча она обняла и как будто хотела поплакать; но, бросивши перепуганный, растерянный взгляд на Аполлона Аполлоновича, она себя пересилила: пальцы ее потянулися к ридикюльчику, но платка не достали.