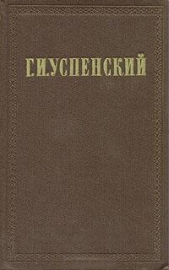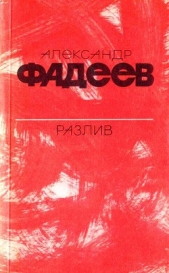Очерки и рассказы (1866-1880 гг.)
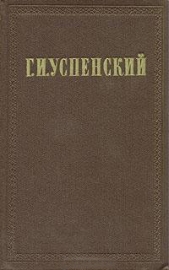
Очерки и рассказы (1866-1880 гг.) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Васильково! — как бы с презрением промолвил странник: — а вот как ангел плачет, этого мы не замечаем…
Тяжелое впечатление произвели эти речи на Антона Иванова. Расставшись с странником, он несколько раз пытался его догнать; но сообразив положение и надежды родственницы, не мог этого сделать и шел. Шел с великим трудом, потому что его сконфуженную душу тянуло в другие места, полные успокоения… Стало тянуть его к речке, где под крутым берегом тихо ходила рыба, в лес, наполненный птицами. "Эка благодать-то", — думал он, оглядывая тихую картину таких сельских работ и интересов, от которых он отвык, шатаясь по столицам. Вот в поповском амбаре сама матушка просевает прошлогоднюю муку; в отворенную дверь слышно шлепанье ладоней в края решета и видна белая, медленно ползущая мучная пыль; неподалеку, около крыльца поповского дома, на разостланных по земле тулупах, пустых мешках и дерюгах рассыпано для просушки хлебное зерно, к которому со всех сторон лезут куры, с писком выхватывая зернышко или отскакивая в сторону, испугавшись щепки или лучинки, пущенной матушкой из амбара… За домом, в саду, две девочки поджидают рой; сидят они в тени бузинного куста, накинув платочки на разгоревшиеся от жару лица, и, засучив рукава по локоть, помакивают березовые ветки в кувшин с водою… Какая тут тишина, какой покой!.. Гудят пчелы, спускаясь там и сям на цветы и листки, — гудят ровно и однообразно; но вдруг к этому гуденью прибавился целый хор… Словно оркестр грянул где-то высоко над землею, и рой — целая толпа из целых тысяч пчел — сверкающею и суетливою массою показался над неподвижной ветлой. Говор этой толпы, шум и гам делался с каждой минутой шумливее и словно сердитее… Но вот одна из девочек взмахнула веткой, капли воды высоко сверкнули на солнце и упали в середину пчелиной толпы. Шум упал; рой сел… На зов девочек впопыхах прибежал отец, священник, в подряснике и в широкой измятой шляпе… Все это растрогало отягченную душу Антона Иванова.
— Благословите, батюшка! — сказал он.
— Повремени, вот управлюсь! — ответил тот.
И управившись, с чинностию произнес: "Во имя отца и сына и святого духа! Откуда и куда?" Антон Иванов с чувством подставил горсть и голову для принятия благословения и с тяжелым вздохом ответил на вопросы батюшки. Давно он не разговаривал так, чтобы дело шло не о грабежах, и ему было любо потолковать с батюшкой о пчеле, о хлебе, о дожде… Из саду перебрались в горницу, ибо и батюшке тоже хорошо было потолковать с кем-нибудь, потом пообедали весело, в присутствии собаки, поместившейся под столом, как только все уселись; кошки и в особенности котята немало доставили удовольствия своими продувными играми, которые они подняли между собою на полу в зале, пред лицом всего семейства и Антона Иванова, перебравшихся сюда после обеда… Сколько было хохоту и смеху, когда матушка рассказала случай, как котенок зацепился хвостом за лукошко и застрял вместе с ним под комодом. Все "помирали" со смеху и рассказывали эту историю часа четыре, припоминая то то, то другое… Зашел разговор о Павле Степаныче, и трудящиеся люди представили его жизнь в истинном свете, от которого у Антона Иванова подрало по коже.
— До сих пор живет, — говорила матушка: — и что он кому-нибудь сделал ли пользы? Сколько из-за него нищими пошло, сколько народу разорил — деревни и посейчас голые стоят, — всю жизнь на эту собаку работали, кровью обливались. Сколько он на своем веку чужого слопал! За что?..
Невмоготу было уйти отсюда Антону Иванову. "Вот бы жить! по-божески! по совести!. — думалось ему. Дотянул он дело до вечера, а вечером, напившись чаю, собрался было уходить, да присел на бревно, на котором уселось семейство попа, против дома, да и досиделся до ночи. На господском дворе слышалась скрипка — это играет один лакей… Бабы прошли с граблями на плечах и песнями; прогремели, возвращаясь с работы, пустые телеги… подошла ночь. Идти было некуда.
— Куда тебе! — сказали ему… — вот тучки собираются…
Антон Иванович завалился спать на душистом сене и все думал о жизни человеческой. "А о душе и забыли!" — сладко засыпая, держал он в голове… Ночью, в глухую полночь, разразился удар грома, и Антон Иванов проснулся. Дождь шумел в крышу поповского дома, клокотал под окнами, как кипящее масло. Батюшка соскочил с кровати и ощупью пробрался к окну — поглядеть, но молния заставила его отскочить назад.
— Свят, свят, свят!.. Какая страсть надвинула! Телегу забыли под сарай задвинуть!.. Свят, свят… Фу ты, боже мой…
— Говорила я, надо сено захватить пораньше… — вскакивая на кровати, шопотом говорит матушка.
— Что теперь с сеном? Ух! Боже мой! Зажгу свечу страстную!.. Свят, свят, свят!..
— Брысь, анафема… сгноили сено!
— Эдакой ливень, как не сгноить… Свят, свят… Эко блох-то! блох-то!
В большом испуге было все семейство, вся деревня. Один Антон Иванов не имел ничего общего в этих заботах, как и в дневных радостях, и думал: "А у меня что? Грабежи на уме, у пса!" Грусть и тоска распространились на другой день в доме священника; не было никакого следа вчерашнего веселья. За ночь успела пронестись гроза, но небо было покрыто скучными тучами; дождь шел не переставая; листья вишен, зеленевшие под окнами, измокли, ветки качались от ветра и роняли капли; капли ползли и катились по стеклам окон. Все живое куда-то исчезло, попряталось; куры, усевшись в сенях на жердочке, встряхивали мокрыми перьями и, надувшись, ворчали что-то; продувные котята кучей лежали в зале на продавленном стуле и спали, тяжело, скучно, как спят в ненастье… Спит в сенях и собака Розка, вся мокрая и в грязи; даже мухи исчезли и столпились в темном углу передней, где висит овчинная поповская ряса. С сонным жужжанием вылетают они отсюда, как только кто-нибудь шевельнет рясу или протянется к окну за графином квасу, но скоро опять садятся на прежнее место, и не слыхать их… Тоска была большая, никому не хотелось выйти на улицу — и одному только Антону Иванову пришлось уходить: он уж слишком загостился, да и пора было поспевать к своему делу…
Распрощавшись с семейством священника, он по грязи пустился в путь. Промокший и грязный, он особенно был расположен проклинать свою жизнь и думать о душе.
"И куда я иду? — думалось ему. — Люди сидят в теплом гнезде, прячутся от этакой непогоды, а я иди! Собака бездомная!"
На пути он должен был зайти в чью-то господскую ригу, стоявшую в поле, чтобы хоть немного переждать дождь.
В риге было много рабочего народу, загнанного дождем. Одни спали на голой земле ничком, другие, сидя вкруг без шапок, жевали хлеб; народ был самый разнокалиберный; на одном была старая солдатская шинель, вытертая и дырявая, без пуговиц; другой погуливал босиком в заплатанной рубахе, рваных холщевых штанах; редко попадался мужик, одетый в целую, нерваную рубаху… В толпе шел недружный говор…
— Была телушка, — говорит один: — баба-дура опоила…
Молчание и жевание.
— С пальца? — спрашивает другой спустя несколько минут, проглотив ком черного хлеба.
— С пальца, — следует ответ через несколько времени, и с такою же медленностию идет разговор.
— С пальца-то приучила, да уйди… Оставила, значит, ее при молоке… Телушка-то ляп да ляп языком-то… хлебать, хлебать — разуму нету, дохлебалась до смерти.
Молчание.
— Это и нашему брату так-то дохлебаться можно, — замечает кто-то.
— Потому с работы… Томишь, томишь… да и дорвешься…
— Ну — и не уняться…
— Как можно! Ежели ты на голодное брюхо полыхнешь вина, первым долгом тебя поманит на соленое.
— Так, так! — подтверждают несколько голосов.
— Так! это верно…
— Как тебя на соленое помануло, сейчас ты, господи благослови, — селедку! Последнее отдашь, а чтобы соленого! Нутро-то у нас перержавело — вот мы и норовим: селедку, и пару, и тройку… Как стало у тебя внутри глодать, сейчас зачнет тебя звать на пойло, на брагу, шабаш!
— Тут конец!..
— Шабаш! Тут! На браге! Простись!