Волей-неволей
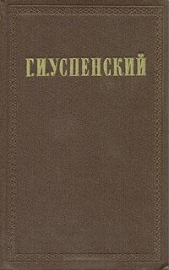
Волей-неволей читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Насилу я ушел; на лестнице ясно слышался шум веселья, происходившего в квартире моего приятеля, стук разучившихся танцевать ног, звуки пьянино, пение, шум, громкий, бестолковый хохот и говор, в котором, не знаю почему, мне слышалось по временам: "Довольно! Довольно! Довольно! дайте и нам! И нам дайте!"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
На улице, занесенной белым, чистым, пушистым снегом, на морозном чистом воздухе я очувствовался, и во мне вдруг разлилась какая-то горячая жалость ко всем и ко всему, что я видел, о чем думал и чем беспокоился в последнее время. Все, что до сих пор меня возмущало, поселяло и возбуждало во мне отвращение, вдруг все это потонуло во впечатлении какой-то огромной драмы, поистине раздирающей душу. Уж не наглое лицо человека, чувствующего, что хотя и помощью подлости ему удалось снять с души тяготу обязательства, вспоминалось мне теперь, а вспомнилась маленькая, молодая, чуть-чуть не ребенок, слабосильная, плохо кормленная клячонка, которая под градом ударов кнута выбивается из сил, стараясь стащить дровни с огромным грузом камней. Под дровнями нет капли снегу, и ей приходится тащить каменный воз по камням. Она рвется, каждую секунду делает новые усилия напрячь последние остатки сил и, наконец, как бы в каком-то истерическом состоянии, начинает рваться из этих пут, от этого кнута, от этого воза, от этого хомута… Она беснуется, рвется в хомуте до удушья, до удушья рвется из хомута, дрожит, "выбалтывает" голову; ей во что бы то ни стало надобно уйти, уйти от этой невозможной для ее сил работы, уйти, только уйти!
Нет, не мужик измучил, истомил и задушил нас полушубком; не мужик не дает нам проходу, не от него мы кричим: "дайте вздохнуть!" "довольно! довольно!" И вовсе не на него мы негодуем. Напротив, мы все, от верхнего края до нижнего, очень им довольны, и любим его, и даже просто-напросто дорожим. Мы очень рады, что он носит нам дрова, топит печи, чистит сапоги, возит, пашет, поит нас молоком, кормит мясом… Я по крайней мере не знаю примера, когда бы по этому случаю где-нибудь в литературе раздался негодующий голос. Ни один писатель еще не кричал, что мужик задушил его своей услужливостью по части всякой черной работы, измучил тем, что не дает возможности самому чистить выгребные ямы. Нет, "такому" мужику все чрезвычайно рады; от времени до времени мы даже "гордимся", что у нас есть такое славное всестороннее существо, такой надежный потомок таких же надежных предков…
Кричим мы вовсе не от мужика, а от той "язвы правды", которую мужик возбуждает в нашем сознании. И говорим и делаем еще многое, но, к нашему несчастью (или счастью!), мы не можем говорить и делать с легким сердцем, так как в нас уже сидит эта несносная, но неминучая, неизбежная, "язва правды", которая заставляет нас понимать, что именно мы делаем. Нам бы хотелось жить, ошибаясь, заблуждаясь, поднимаясь и падая, как жили "прочие", но опять-таки нам невозможно делать этого, не зная, что мы ошибаемся, заблуждаемся. Нет, мы знаем, знаем это!
Разумеется, я говорю о человеке, имеющем хотя какое-нибудь соприкосновение с книгой, о человеке развитого сознания. Что ж делает с нами книга? Выяснив нам все ошибки, уклонения, падения и т. д. (которых мы сами бы хотели отведать, чувствуя, что в этом "жизнь") — и тем самым лишив нас аппетита повторять то же самое, а главное, отравив нашу мысль тягостной необходимостью непременно думать правильно и правдиво, то есть умертвив в нас всякое своевольство, прихоть, фантазию — эта самая книга на последней странице преподносит нам целый воз, тяжело нагруженный камнями горя человеческого, и неопровержимо доказывает, что нам надобно сдвинуть с места этот непосильный, тяжелый груз. Я хотел бы погулять, потанцевать, поваляться на травке, пожить, поплутать и в тьме и в свете… "Ведь вот, у прочих народов, — думаю я, — сколько ошибок и сколько злодейства, но сколько же и жизни, сколько красоты и поэзии, всего! Оперу напишут из тогдашних ошибок и кровавых глупостей, так любо-дорого смотреть! Вот бы и нам… Что за беда ошибиться?.. Опера потом, с хорошей постановкой, сойдет… поэма…" Нет! "Последняя страница" не дает мне и помечтать; она насильно вытаскивает меня из привольной полутьмы прямо в океан света, запрягает меня, с собственного моего согласия, в тяжелейший воз, нагруженный целою горою обязанностей, и заставляет сознательно надрываться в этом хомуте! Вот отчего кричат: довольно, довольно! Мы кричим от тяготы нашего сознания, которое давит нас, потому что наша мысль не может не считать этого гнета действительною правдою.
Русский сознательный человек в своем духовном развитии волей-неволей должен брать из опыта общечеловеческого непременно последнее слово, точно так, как он должен брать игольчатое, а не кремневое ружье и т. д. И все последние слова говорили ему, что он как личность, как "сам по себе", как существо своей воли не может существовать. И мы приняли эти последние слова в самом подлинном виде, в неприкрашенном, в жестоком даже; в нас поэтому всего сильнее воспиталось отсутствие сознания личного права, личного разнообразия желаний, энергии, личного своевольства. Иной украдет миллион и даже прокутить не сумеет: начнет извозчикам давать на водку по сту рублей. Личная впечатлительность в нас ослаблена и ослабляется "последним словом" мысли человеческой ежеминутно — это во-первых; а во-вторых, будучи так ослаблены по части личного эгоизма, мы, благодаря тем же последним словам, воспитываемся в сознании нашей обязанности пред всем человечеством… Вот тот хомут, из которого мы, выражаясь мужицким языком, "выбалтываем" голову и кричим: "довольно, довольно!"
Воображаю, какие мучения должен был испытывать, например, наш славный предок, Алеша Попович, когда на него вдруг нагрянуло христианство, восемьсот лет разрабатывавшееся за тридевять земель… Алеша Попович только было разгулялся, распьянствовался во стольном городе во Киеве, только было в нем заиграла кровь и сила богатырская, только было выучился он лить в себя турьи роги зелена вина и получил "скус" к тогдашнему дамскому полу — хвать, как снег на голову нагрянули на него и пост, и молитва, и воздержание, и покаяние и ад со всеми ужасами. Навезли схим, вериг, стали "для примера" зарываться по самую шею в ямы, проповедовать смирение, кротость, незлобие, нищету, "подставь ланиту", отдай имение… Что должен был перечувствовать и перенести нравственных мук бедный "добрый молодец". Ведь все это новое решительно ему не по вкусу, а ничего не поделаешь! В этом новом — правда, и Алеша запрягся в нее именно потому, что тут правда, что "совесть" его запрягла в этот хомут… И сколько раз вероятно, задыхаясь в этом хомуте, он вопиял: "довольно, довольно!" Вот и теперь тоже! Это драма, из которой два выхода: жизнь и смерть; смерть может быть всякая, по выбору, а жизнь для нас только в одном — в действительном опыте переработки собственной личности практическим, свободным делом во имя общего, массового счастия. Вот на этом пути мы можем и заблуждаться, и падать, и подниматься, словом, жить, развивать свои силы. Вот на этом-то пути мы и оперу "с постановкой" отыщем… Надобно подсыпать снежку под полозья тяжелого воза, помочь… А чтоб обращаться к восстановлению прав французской кадрили — нет, это не резон, и ничего из этого не выйдет, будьте уверены.
Так вот только после всех этих недоумений, размышлений и всех этих опытов выбраться из тьмы к свету, приведших меня к убеждению, что перед моими глазами происходит не реставрация французской кадрили, а самая настоящая драма, я и решился написать вверху белого листа бумаги давно знакомые мне слова "часть первая, глава первая…"
III. ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ. — ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ "ПОДЛИННЫХ" РАЗМЕРОВ И ПОДЛИННЫХ СВОЙСТВ "РУССКОГО СЕРДЦА"






















