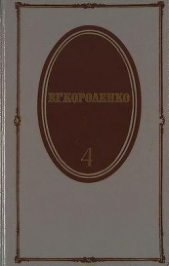Том 5. История моего современника. Книги 3 и 4

Том 5. История моего современника. Книги 3 и 4 читать книгу онлайн
В том включены третья и четвертая книги обширного автобиографического полотна «История моего современника», в раздел «Приложения» — дополняющие его очерки, незаконченная повесть «Полоса», не вошедшие в основной текст главы, а также написанные в разное время автобиографии писателя
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как ни строго было заключение, долгая практика всегда укажет известные бреши — и порой арестант мог перемолвиться с Фоминым словом или передать записочку. Это меня не удивило.
В одной из записок Фомин сообщал, что он сидит в своей конурке третий год безвыходно. Его не пускают гулять, даже не водят в баню. Раз в месяц вносят в камеру большую ванну, и он моется в присутствии сторожа и смотрителя. При этом у «его благородия» хватало совести насмехаться над заключенным, который— «ишь ты, моется в ванне, как барин».
Единственным развлечением Фомина было приготовление фигурок и игрушек из мятого хлеба — искусство, которое на моей памяти процветало среди заключенных за восстание поляков. Мой родной город, Житомир, был тогда переполнен этими изделиями, так как покупка их была легальной формой помощи арестантам.
Фомин изловчился сделать глобус и подарил его ребенку смотрителя. Тогда смотритель позволил ему продолжать ремесло, и Фомин сделал уже весь планетарий, для чего пользовался проволокой из оконной решетки. Смотритель и на это посмотрел благосклонно, так как он стал продавать эти изделия на сторону, платя Фомину по рублю. Сколько он сам получал — оставалось неизвестным.
Понемногу я переслал Фомину бумаги, конвертов, десять рублей, тщательно заделанных в конец копченой колбасы, и, наконец, несколько стальных перьев, кисть и кусок туши, которая всегда бывала со мною (очень удобно хранится и служит вместо чернил).
Особенные сомнения внушали мне деньги, так как арестант-посредник едва ли бы удержался от искушения. В тот же день, когда я послал их, к нашей двери явился высокий молодой арестант, назвавший себя тюремным старостой. Это был человек располагающей наружности и державший себя вполне независимо.
Он спросил у меня, не пересылал ли я Фомину денег, и предупредил, что Ефремов человек ненадежный. «Общество» ему не доверяет, и староста боится, что он украдет деньги, назначенные Фомину. Я, конечно, не имел тогда оснований особенно доверять и этому своему собеседнику, который легко мог быть подослан не «обществом», охранявшим интересы одиночного узника, а смотрителем. Поэтому я холодно ответил, что это дело мое, и мы расстались не особенно дружелюбно.
На следующий день я получил через Ефремова записку, написанную, как и предыдущие, очень простым шифром. Деньги и все остальное дошли по назначению. Тем не менее, забегая вперед описываемых событий, я должен сказать, что теперь я с чувством уважения и благодарности вспоминаю о старосте и о честном предостережении со стороны тюремного «общества».
В сентябре того же года, которым начинается настоящий рассказ, то есть через год с небольшим после моей переписки с Фоминым, я был в Томске. Там меня посадили в общую камеру в так называемой «содержающей» (тюрьма, назначенная для приговоренных на сроки к тюремному заключению). Оказалось, что Ефремов был в это время там; он уже кончил свой срок и пересылался на поселение, но его держали особо от пересылочных, так как над ним тяготела гроза тюремного общества. Оказалось, что Фомин написал письмо и дал Ефремову денег на подкуп сторожей, которые бросили письмо в почтовый ящик. В письме Фомин извещал товарищей о своем заключении и просил помощи. А так как на его имя всякие сношения были абсолютно невозможны, то для высылки денег он дал адрес Ефремова, который около этого времени оканчивал срок. Действительно, вскоре Ефремов получил семьдесят рублей от имени будто бы своих родных. «Общество» знало, кому назначены деньги, и потребовало, чтобы Ефремов честно передал их Фомину. Ефремов отлынивал и наконец вышел из тюрьмы для отправки на поселение. В это-то время я и встретил его в коридоре томской тюрьмы и не узнал, так как не видал его около года. Однако не мог не обратить внимания на то, что встречный арестант, с лицом, напоминавшим мне что-то, потупился и как-то сжался при встрече, точно виноватая собака. На следующий день в «содержающую» пришло из пересыльной сообщение о том, что Ефремов есть «изменник общества» и об его поступке с Фоминым… Его жестоко избили.
Целый день несчастный прятался под нарами в пустых камерах, а во время поверки кинулся в ноги смотрителю, прося, чтобы его перевели в секретную. Я стал просить арестантов, со своей стороны, чтобы они пощадили несчастного негодяя. Мне ответили, что в этой тюрьме жизни его не грозит опасность. Сидящие на сроки не решатся сделать «крышку», но бить его будут все время, как собаку, походя и при всяком случае. Если же тут были бы каторжане, то никакая секретная не спасла бы изменника, так как Фомина, заключенного с такой строгостью в каторжной тюрьме, они, не зная лично, считали все-таки своим.
С тех пор как я посылал деньги и перья Фомину, прошел год. И вот сам я сижу почти в том же положении и, судя по всем признакам, в той же камере. Он писал мне, между прочим, что ему стоит величайших усилий хранить недозволенные предметы, так как еженедельно у него производят тщательные обыски.
Теперь я стал разыскивать его тайники. Я осмотрел стены, рамы и окна, всякую черточку на железной печке, но ничего не находил подозрительного. Наконец я стал осматривать кровать. Она была деревянная, грубо окрашена темною краской. Исследуя каждый квадратный вершок, я заметил, что одно место спинки было слегка неровно и как будто немного чернее. Я попробовал мокрым пальцем: палец оказался черным, между тем как в остальных местах краска не отставала. Тогда я стал скоблить это место. Оказалось, что оно закрашено тушью поверх тонкого слоя мягкого хлеба. Я сорвал тоненькую пленочку и увидел, что под нею, с искусством, которое присуще или самому ловкому столяру, или одиночному арестанту, в кровати вырезано углубление не больше трех квадратных дюймов и около 1/2 дюйма в глубину, закрываемое тоненькой задвижной дощечкой. Чтобы нельзя было заметить щелочек, искусная рука прикрывала дощечку слоем хлеба, который после окраски тушью давал полную иллюзию цвета и неровной густоты масляной краски. С волнением человека, находящего признаки ближнего в пустыне, я открыл эту заслонку. В углублении лежала свернутая бумажка, два стальных пера и кусок туши.
Прежде всего я жадно развернул бумажку. Это было мое собственное письмо Фомину.
Год назад я был доволен и счастлив. Неожиданная и благоприятная перемена в моей судьбе, возвращение «на запад», милое общество случайно, но очень удачно собранных судьбою людей, в том числе несколько хороших женщин, — все это настраивало радостно. Помню, что я писал тогда в настроении счастливого человека, которому хочется передать частицу своего счастия другому. Я сообщал о нашем возвращении, о признаках новых веяний, толки о конституции, которыми ознаменованы были первые месяцы царствования Александра III… Помню, что ответ Фомина был полон горечи и сомнений.
И вот я теперь читал свое радостное письмо в той же камере…
Того, кому я писал, может быть, не было в живых. Я один, еду опять теми же местами неизвестно куда. А что, если здесь-то и есть конец моего пути? — внезапная и горькая, опять мелькнула во мне эта мысль. Что, если через некоторое время у меня отнимут мое платье, мои вещи, мою постель, все, что напоминает мне о вогле, — и принесут сюда арестантский халат, может быть снятый с плеч моего умершего предшественника, и дни бесконечной вереницей потянутся надо мной, не трогая меня, ни в чем не меняя моего положения, как идут они над могилой, как шли над Фоминым? И мне раз в месяц станут вносить ванну, и те же неуклюжие шутки, которые слышал Фомин, «его благородие» станет отпускать теперь по моему адресу… Ведь в самом деле род моего преступления не предвиден законом…
Эта мысль привела меня в такое состояние, что я в первый еще раз кинулся на свою постель, уткнувшись лицом в подушку. Подушка оказалась жестка и колюча. Перестилая постель, чтобы посмотреть, нет ли надписей на досках, я вывернул наверх лежавшую на ней лепешку, набитую соломой, превратившейся отчасти в труху. Может быть, эта тюремная подушка лежала здесь с того времени, как Фомин выплакал на ней свои последние слезы. Я не отбросил ее. Эта мысль доставила мне теперь своего рода горькую отраду. Пусть… так лучше!.. Так я полнее отдавался теперь мрачному чувству, поднявшемуся из глубины сердца.