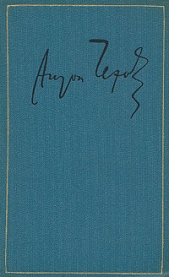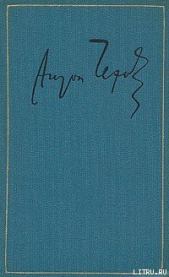Том 3. Очерки и рассказы 1888-1895

Том 3. Очерки и рассказы 1888-1895 читать книгу онлайн
В третий том Собрания сочинений Н.Г. Гарина-Михайловского вошли очерки и рассказы 1888–1895 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Батюшка ты мой, пожалей старуху: не мучь.
— Ах, — вздохнул еще раз приказчик, — видно уж так…
И Кирилл Архипович рассказал, наконец, о том, что крестьяне хотят повернуть все дело на помочь вместо денег. Подошли староста и передовые.
— Что вот, батюшка, говорит мне приказчик? — наклонилась добродушно и таинственно старушка к старосте.
Староста не сразу ответил. Он положил сперва руку на облучок, посмотрел куда-то в сторону и, наконец, уставившись в барыню, ласково-добродушно сказал:
— Так надумались мы, Наталья Ивановна, послужить тебе… дело суседское…
— Ох, батюшка мой, я уж и не знаю, как благодарить-то…
— Ничего, барыня, — задумчиво ответил Аношин, которому пришлось долго толковать с задорным парнем Михайлой, — выжнут безо всякого…
— О?
— Верно… За водкой посылайте…
— Господи, так ведь, конечно, — засуетилась старуха. — Вот, вот…
Наталья Ивановна торопливо достала бумажник из-кармана и, отсчитав деньги, дала их приказчику.
— Три ведра, — приказала она.
— Довольно двух, — кивнул головой староста.
— Три, батюшка, три, — настояла барыня.
— Ну, спасибо… Народ охотнее будет хвататься… Идти к ним…
И староста, а с ним и его свита пошли по рядам. Староста говорил громко, так, чтоб слышала и барыня и жнецы.
— Эй, ребята, жни получше, — три ведра барыня жертвует вам…
Редкие из жнецов при этом подымались и оглядывались в сторону барыни, большинство же молча, сосредоточенно жали.
Перед иными останавливался староста и тихо говорил:
— Так ведь чего же станешь делать? Неужели вот так за горло? Вон цена на базаре, слыхали? Опять много ли придет на человека, если по базарной цене, а тут хоть уважка… а вот по жнивам скотину допустит опять… А главное пристал приказчик: меня, мол, подвели…
— Уж ему, конечно, перед барыней неловко…
— А нам-то с ним же жить…
— Оно, конечно, так… Эх… чего станешь делать?
— Так ведь об этом самом и речь…
Бабушка и внучка сошли с плетушки на землю, прошли несколько шагов и присели у первого скирда хлеба.
Бабушка, щурясь, все смотрела на ряды жнецов и все еще не могла освоиться с мыслью, что двести рублей свалились ей с неба. Она была и довольна, и смущена, и почему-то старалась не смотреть на внучку. Лицо внучки было покорно огорченное.
— Вот, бабушка, ты говорила, что будут лишние деньги — школу построишь… Вот эти деньги отдай…
— Да где ж деньги, матушка, когда их нет у меня!
— Пришлось бы доставать…
— Ну, так доставать еще…
— Ну, вот, когда достанешь, и дай…
Глаза старухи смущенно забегали, и она ответила, не смотря на внучку:
— Ну, не все сразу… Достать! И даром жнут, а толку нет.
— Зачем же сеять тогда?
— Зачем, зачем, — повторяла старуха.
— Так всегда, — пренебрежительно сказала внучка и отвернулась.
Бабушка молчала.
Молчание тянулось долго и было неприятно старухе. Наконец она сказала:
— Для вас хлопочу, — все вам останется… Хоть все раздайте…
— Что ж отдайте? Я, может, и не доживу еще до того времени…
— Доживешь, матушка… и в ум войдешь.
— Барыня, — подошел к ней крестьянин, жавший до сих пор, — я к тебе все насчет лесу докучать пришел.
Старуха растерянно опять покосилась на внучку, на крестьянина и спросила:
— А что тебе, батюшка?
— Да все вот насчет лесу…
Барыня хорошо знала всю эту историю с лесом: был продан лес, назначен был срок для вывозки его, лес в срок не был весь вывезен, и, согласно печатному ярлыку, крестьянин лишался права на оставшийся лес.
— В чем дело? — спросила еще раз старуха, словно ничего она не знала.
Крестьянин должен был рассказать ей подробно все.
— Батюшка мой, — проговорила, выслушав, старая барыня, — а кто же тебе виноват?
— Так ведь чего же станешь делать? Не успел.
— Так ведь, батюшка мой, молодой-то лесок взялся, — ты его топтать станешь теперь…
— Где взялся?.. Когда ему взяться было?
— Нет, взялся, батюшка, как сеяный пошел: сама видела.
— Пропадать, видно, моему лесу, — махнул рукой крестьянин.
— Лес, батюшка, теперь не твой.
— И деньги отдал, да и лес выходит не мой, — фыркнул крестьянин.
— А зачем же ты его не вывез? мне что же полесовщика из-за тебя лишнего держать? Ты ведь знаешь, что мой теперь в поле…
— Зачем лишнего? свой лес вывезу, неужели же твой захвачу?
— Ты не захватишь, а ведь всякий есть: другой и захватит. Вас тысячу человек: тебе поблажку, и всем надо… Я, старуха одинокая, как с вами тогда соображусь, если одного порядка не заведу.
— Порядок?! Деньги отдал, а лес опять не мой: уж бог с ним и с порядком таким.
Крестьянин говорил грубо.
— Ну что ж, батюшка, ругай меня старуху, — напряженно тоскливо проговорила барыня.
— Кто ругает? Бог с тобой и с твоим лесом, когда так… И водки твоей пить не хочу, — уйду и бог с тобой.
— Вот видишь ты какой: сердце-то у тебя злое… Нехорошо, батюшка, нехорошо…
— Ну, ладно: какой есть, такой и есть. Марья! будет жать! — закричал своей жене крестьянин.
— Ишь какой! На зло делает, — мотнула раздраженно головой старуха. — Ты что ж меня хочешь на всю деревню срамить?
— Бабушка, — вмешалась внучка, — ведь это же действительно его лес.
— Ну, вот, — сказал крестьянин, — твоя кровь, а мое ж баит.
— Да ты что грубишь? — накинулась на него барыня, вдруг вспыхнув.
— Чем я грублю? Э, бог с тобой!
Крестьянин не на шутку собрался уезжать.
Старуха не знала, что делать: и леса жаль было, и перед внучкой неловко, и перед деревней выходила неприятная история: разнесется далеко кругом в преувеличенном виде.
Едва-едва помирил барыню с крестьянином подоспевший староста и приказчик. Старуха отдала лес.
— Ну и ладно, ну и иди, — погнал жать староста получившего свой лес крестьянина.
Но старушка еще долго не могла успокоиться.
— Видно сразу нехорошего человека: пришел бы тихо, смирно, а то вот при народе… Нехорошо… Нехорошо… Старуха я, грех так… Портится народ.
— Нынче всякого народу довольно, — философски успокаивал ее староста.
— Ну, что ж? Бог с ним… А все-таки скажу: нехорошо…
— Известно: где хорошо?
Но когда привезли водку, и жнецы стали подходить и, выпив, жали старой барыне и ее внучке руку, а бабы целовались с ними, — когда очередь дошла до крестьянина, бранившегося со старухой, то Наталья Ивановна весело проговорила:
— Ну, давай мириться… — и, сама налив стакан, подавая, сказала: —ну, уж пей… Будет: кто старое помянет, тому глаз вон.
— Мириться, значит, охота, — поддакнул кто-то из толпы.
— Мировая у вас выходит, — сказал другой.
— Так ведь я что? — говорил крестьянин, принимая водку и кланяясь, — прости и ты, коли в чем обидел… Мы мужики, чего понимаем?
И, выпив, крестьянин довольно крякнул.
— Ну, вот и помирились, — крикнул весело кто-то из толпы.
— Я ведь, батюшка, — объясняла старуха, — не люблю ссориться. Пусть же мое пропадает лучше…
Мировая барыни с мужиком да водка развеселили толпу.
— Простая ты у нас, — весело произнес, подвыпивши, какой-то корявый мужик; — страсть простая!
— Против нашей барыни и нет, — покровительственно бросил, уходя, другой.
— Ну, вы там: жать! — крикнул кто-то. — Кончать, что ль!
— Айда!
Молодой парень Никанор, тонкий, с черными глазами, с петушиным пером в шапке, пожав барышне руку, делился впечатлениями с окружавшими парнями.
— Сахарная… — Он сделал сладкую мину.
— Ишь, дьявол, куда лезет… Тебе бы вот ее?
— Взял бы! Эх!
И Никанор ловко и весело пустился вприсядку.
— Жать, жать! — валила толпа. — Бабы, песни!
Склонив набок голову, во главе пестрой ленты сарафанов уже заходила в рожь и запевала Авдотья своим звонким до визга голосом хоровую песню.
Поют песни жнецы, солнце садится. Задумалась старая барыня, и внучка задумалась. Сидят обе у той же скирды и смотрят: бабушка в землю и грызет своим беззубым ртом соломинку, а внучка — на заходящее солнце, на толпы жнецов, на ту избушку, что стоит там далеко над обрывом реки. Туда бы, в эту хижину, в эту мирную идиллию, с книгой в руках забыться от житейской прозы. Забыться и жить, довольствуясь самой скромной долей мыслящего человека.