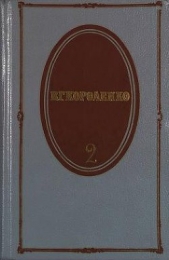Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика
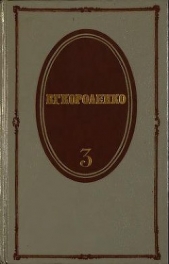
Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика читать книгу онлайн
В том включены рассказы 1903–1915 гг. «С двух сторон», «Братья Мендель» и др., публицистические работы «Несколько мыслей о национализме», «Легенда о царе и декабристе», «Земли! Земли!», «Письма к Луначарскому» и др., большинство из которых впервые публикуются в советское время в составе собрания сочинений, а также статьи и воспоминания о писателях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вот истинное благотворное чудо состояло в том, чтобы вы наконец сознали свое одиночество не только среди европейского социализма, но начавшийся уже уход от вас вашей собственной рабочей среды, не говоря уже о положительной ненависти деревни к вашему коммунизму, сознались бы и отказались от гибельного пути насилия. Но это надо сделать честно и полно. Может быть, у вас еще достаточно власти, чтобы повернуть на новый путь. Вы должны прямо признать свои ошибки, которые вы совершили вместе с вашим народом. И главная из них та, что многое в капиталистическом строе вы устранили преждевременно и что возможная мера социализма может войти только в свободную страну.
Правительства погибают от лжи… Может быть, есть еще время вернуться к правде. И я уверен, что народ, слепо следовавший за вами по пути насилия, с радостью просыпающегося сознания пойдет по пути возвращения к свободе. Если не для вас и не для вашего правительства, то это будет благодетельно для страны и для роста в ней социалистического сознания.
Но… возможно ли это для вас? Не поздно ли, если бы вы даже захотели это сделать?
22 сентября 1920 года.
Статьи. Воспоминания о писателях
О Глебе Ивановиче Успенском *
Черты из личных воспоминаний
Есть люди, подобные монетам, на которых чеканится одно и то же изображение. Другие похожи на медали, выбиваемые только для данного случая.
Глеб Иванович Успенский был именно такой медалью. Он был один, сам по себе, ни на кого не был похож, и никто не был похож на него. Это был уник человеческой породы, редкой красоты и редкого нравственного достоинства.
Нужно с грустью признаться, что реальная личность писателя, художника, артиста — редко совпадает с тем представлением, какое мы составляем по их произведениям. Во время творчества идей, звуков, образов мы становимся несколько выше нашей средней личности. Мы как бы уходим в маленькую горную часовенку, отгороженную от наших будней. А затем, «когда не требует поэта к священной жертве Аполлон», мы опять спускаемся с этих вершин, которые — велики они или малы — все-таки составляют высшие точки нашего личного существования. Иной раз этот обычный уровень очень удален от вершин, и вот почему так часто первое впечатление при встрече с писателем — бывает легкое движение разочарования: нам трудно связать в одно целое наше идеальное представление с реальною личностью.
Но бывают дорогие и редкие исключения, когда оба эти представления совпадают вполне и нераздельно. Таким именно исключением был Глеб Иванович Успенский.
Во второй половине 80-х годов я жил в Нижнем Новгороде, и среди моих близких знакомых был провинциальный писатель, который в то время вел литературный отдел в одной из приволжских газет. Всякий, кто жил уже сознательной жизнью в то смутное и туманное время, помнит общий тон тогдашнего настроения. У так называемой интеллигенции начиналась с «меньшим братом» крупная ссора (о которой последний, впрочем, по обыкновению, даже не знал). Хотя Успенский никогда не идеализировал мужика, наоборот, с большой горечью и силой говорил о «мужицком свинстве» и о распоясовской темноте даже в период наибольшего увлечения «устоями» и тайнами «народной правды», тем не менее в это время он всей силой своего огромного таланта продолжал призывать внимание общества ко всем вопросам народной жизни, со всеми ее болящими противоречиями и во всей ее связи с интеллигентною совестью и мыслью. Так что с реакцией против мужика начиналась реакция и против Успенского: к нему обращались запросы, упреки, письма. В одной из своих статей в «Отечественных записках» Глеб Иванович с большим остроумием отмечал и отражал это настроение при самом его возникновении. Он характеризовал его словами: «Надо и нам». Что в самом деле: мужик заполонил всю литературу. Мужик да мужик, народ да народ. «Мы тоже хотим… Надо и нам…» Нет сомнения, что у этого настроения были свои причины, пожалуй, далеко не безосновательные. Еще недавно многие требовавшие «и себе» красоты, мечты, ярких красок или внимания, не только не требовали этого, но даже, забывая о себе, отдавали все личное меньшему брату. Но жизнь, обманутые ожидания завели их в тупой переулок, из которого как будто не было выхода… Началось самоуглубление, самоусовершенствование, решение вопросов изолированной личности, вне связи с общественными вопросами, до тех пор властно занимавшими умы и сердца. «Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя», — с обычной меткостью характеризовал Глеб Иванович одну сторону этого настроения. Огорченный и разочарованный, русский интеллигентный человек углублялся в себя, уходил в культурные скиты или обиженно требовал «новой красоты», становясь особенно капризным относительно эстетики и формы.
Отчасти это настроение переживал и мой приятель. Кроме того, он был хорошо знаком с иностранными литературами, относительно же русской в его чтении были пробелы. В том числе и Успенского в целом он не знал и разделял предубеждение против его настойчивых призывов «все-таки смотреть на мужика».
Однажды он вошел в мою гостиную, когда за чайным столом, в кружке моей семьи и знакомых, сидел Глеб Иванович, только что приехавший в Нижний Новгород. Он говорил о чем-то своим обычным тоном, в котором проглядывала какая-то сдержанная, глубокая печаль, по временам вдруг уступавшая место вспышкам особенного, только Успенскому присущего, тихого юмора. Я представил своего приятеля. Успенский встал, пожал ему руку, невнятно пробормотал свою фамилию и опять обратился к занимавшей его теме, которая уже овладела вниманием слушателей. Взглянув случайно на своего приятеля, я заметил на его лице напряженное внимание, смешанное с чрезвычайным изумлением. Через четверть часа он поднялся с своего места и, выйдя в соседнюю комнату, поманил меня за собою.
— Кто это у вас? — спросил он с величайшим любопытством. — Я не расслышал его фамилии.
— А что? Почему вы спрашиваете таким тоном?
— Это какой-то необыкновенный человек. От него… веет гениальностью.
— Поздравляю вас, — ответил я, смеясь, — вы познакомились с Глебом Ивановичем Успенским.
После этого мой приятель несколько недель запоем изучал Успенского, все более и более увлекаясь, и в приволжских газетах появились статьи нового страстного поклонника Глеба Ивановича. Он был завоеван навсегда, и притом не писатель предрасположил его к личности, а, наоборот, необыкновенное обаяние личности обратило скептика к изучению произведений писателя.
Глеб Иванович Успенский не сказался в своих произведениях со всею силой своей необыкновенной личности и своего таланта. Чистый образ, тщательно выношенный в душе и выплавленный из однородного художественного материала, вообще легче привлекает внимание и живет дольше, чем та смесь образа и публицистики, посредством которой работал Успенский. Ему нужна была не красота, не цельность впечатления, не самый образ. С лихорадочной страстностью среди обломков старого он искал материалов для созидания новой совести, правил для новой жизни или хотя бы для новых исканий этой жизни. То, что он предполагал известным, общим у себя и читателя, над тем он не останавливался для детальной отделки, то отмечал только беглым штрихом, заполнял кое-как, лишь бы не оставить пустоты. Наоборот, то, что еще только мелькало впереди смутными очертаниями будущей правды, — за тем он гнался страстно и торопливо, не выжидая, пока оно самопроизвольно сложится в душе в ясный, самодовлеющий образ. Он пытался обрисовать его поскорее для насущных надобностей данной исторической минуты теми словами, какие первые приходили на ум. От этого он часто повторялся, все усиливая находимые идеи, заставлял читателя переживать с ним вместе и его поиски, и его разочарования, и всю подготовительную работу, пускал жильцов, когда у постройки еще не были убраны леса. Все это искупалось важностью и насущностью занимавших Успенского вопросов, а общность настроений писателя и его читателей заполняла пробелы в этой торопливой работе. Теперь, когда настроение изменилось, пробелы выступают яснее, и, в целом, Успенский становится «труден». Однако всякий, кто не побоится лесов и видимого беспорядка в этой огромной работе, наткнется здесь и на замечательные образы, носящие печать более чем крупного таланта, и на глубокие, прямо «проникновенные» мысли (например, во «Власти земли», этой философии и эпопее земледельческого труда)… Но особенно интересна во всем этом — самая личность автора, с ее своеобразной глубиной, с ее необыкновенной чуткостью к вопросам совести, с ее смятением и болью…