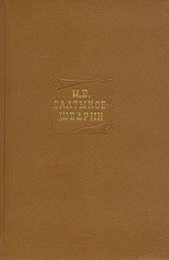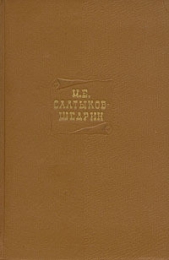Том 5. Критика и публицистика 1856-1864
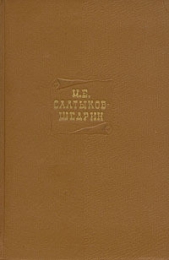
Том 5. Критика и публицистика 1856-1864 читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В пятый том настоящего издания входят критика и публицистика Салтыкова 1856–1864 годов, кроме отнесенных в следующий, шестой том «хроник» из цикла «Наша общественная жизнь», примыкающих к этому циклу статей «Современные призраки», «Как кому угодно», «В деревне», а также материалов журнальной полемики Салтыкова с «Русским словом» и «Эпохой».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Такой крутой переворот в понятиях о значении искусства необходимо требует новых деятелей, которые, конечно, и являются; но он до того жизнен и силен, что охватывает собой даже и тех старых поэтов-художников, которые до тех пор пели исключительно о счастье птиц. Всем хочется приобщиться к движению, ибо, благодаря своей жизненности, оно всех затрогивает за живое, всех неслышно в себя втягивает.
Но понятно, в каком затруднении должны находиться эти благонамеренные и восчувствовавшие старички. С одной стороны, сердца их несутся к птицам и надзвездным высотам, с другой — нечто смутно говорит им, что птичьи песни уже никого не удовлетворяют и никому не нужны. И вот они начинают соединять несоединимое, начинают склеивать старое, привычное и любезное для них дело с делом новым, привлекающим их взоры своею жизненностью. И начинают они вдумываться, куда бы им примкнуться, начинают вникать в смысл происходящего перед ними движения, но смысла этого угадать не могут, а только улавливают одни внешние признаки, те самые, которые и в старинных реториках уже были помечены известными рубриками.
Вторжение новой жизни собственно в нашу литературу (разумеется, в смысле искусства, а не науки) выразилось или в форме сатиры, которая провожает в царство теней все отживающее, или же в форме не всегда ясных и определенных приветствий тем темным, еще неузнанным силам, которых наплыв так ясно всеми чувствуется. Это и понятно. Новая жизнь еще слагается; она не может и выразиться иначе, как отрицательно, в форме сатиры, или в форме предчувствия и предведения. Но и для того, чтобы иметь право выразить их таким образом, искусство все-таки обязано иметь понятие о том, о чем оно ведет свою речь, и сверх того обладать каким-нибудь идеалом. Вот этим-то последним условиям и не может никак отвечать «поэт высот надзвездных», ибо все, что ни делается нового в мире, все это, так сказать, не при нем делается, и как ни усиливается он приобщиться к движению, но успевает в этом только отчасти, то есть именно схватыванием только некоторых внешних его признаков. И выходит из этого либо явная ложь, либо смех, либо бессмыслица, ибо нет в мире положения ужаснее положения Ювенала, задавшегося темою «бичевать» и недоумевающего, что́ ему бичевать, задавшегося темою «приветствовать» и недоумевающего, что́ ему приветствовать. За что он ни примется — везде попадет не туда, куда следует, за какой кусок ни зацепится — всегда пронесет его мимо рта. Начнет ювенальствовать — никого не покарает; начнет приветствовать — отприветствует так, что до новых веников не забудешь. Ибо и ювенальствует-то он против такого зла, которого никто не замечает, и приветствует-то совсем не ту силу, которая грядет, а ту, которая давным-давно отжила свой век.
Очевидно, что результатом таких усилий может быть только изобилие «мудреных слов», тех самых слов, о которых с таким страхом рассуждает Настасья Панкратьевна в комедии Островского «Тяжелые дни». «Как услышу, — говорит она, — слово «жупел», так руки-ноги и затрясутся» *. Но Настасья Панкратьевна, по крайней мере, откровенна: она прямо и сознается, что от этих слов ей страшно, а певцы «высот надзвездных», напротив того, всячески стараются скрыть свой страх и даже, как нарочно, нанизывают слова пострашнее и помудренее: смотрите, дескать, какой я храбрый!
Да, это истина неоспоримая, но, к сожалению, очень немногими она понимается: надо уметь вовремя спеть свою песенку. Ну, спел, пролил утешение и веселость в сердца досужих людей, получил лавровый венок — и будет с тебя! Вспомни хоть Рубини, например; он тоже не умел кончить вовремя и в последнее время не пел, а только рот разевал, а люди, не видевшие дней его славы, и впрямь думали, что он всю жизнь только и делал, что рот разевал…
Но от этих общих размышлений перейдем к настоящему предмету нашей статьи, к сборнику новых стихотворений А. Н. Майкова. К сожалению, мы не можем не сознаться заранее, что размышления наши имеют очень близкое отношение к этому сборнику.
Всякому читателю, конечно, известно, что означает на сценическом языке слово utilité [84]. Так называется обыкновенно актер на роли второстепенные, не требующие очень яркого таланта, но все-таки достаточно обращающие на себя внимание публики, чтоб быть выполненными со смыслом. На актеров этих никто не ссылается, и никто не приводит их в пример; но когда случайно заходит о них речь или когда они сами о себе напоминают, то отзывы всего чаще бывают в их пользу. «Да, это полезный актер, — говорится обыкновенно в таких случаях, — и в общем составе труппы он занимает свое место с честью!» Теперь представьте себе, что вдруг этот самый актер, эта самая полезность, вместо того чтоб добросовестно исполнять роль маркера Шарова (водевиль «Ворона в павлиньих перьях» *), берется за роль Гамлета, вместо того чтоб по мере сил своих лицедействовать в роли нигилиста Вертяева (комедия «Слово и дело» г. Устрялова *), начинает то же лицедейство производить в роли «Короля Лира»? Что может подумать об нем публика, та публика, которая смелость еще не ставит решительным доказательством таланта?
Такого же рода «полезность» представлял собой в русской литературе г. Майков. Первые его стихотворения были встречены с заметным и вполне заслуженным, по времени их появления, сочувствием *, а некоторые из них даже и теперь прочтутся не без удовольствия. Правда, что все они как-то смахивают на игрушку, что после всех их остается как-то так гладко на душе, как будто ничего туда и не западало — все равно, что читал, что не читал, — тем не менее в общем итоге тогдашней русской литературы они были под стать: не многим ее украшали, но и не вредили. В них всегда замечалась некоторая доля хладного резонерства, прикрываемого так называемою пластичностью, но так как публике было решительно все равно, каким именем называется тот умеренный поэтический жар, которым обладал ее менестрель, то она и относилась к нему благосклонно, то есть с теми умеренными похвалами, с которыми обыкновенно относятся ко всем вообще «полезностям». Казалось бы, это жребий довольно завидный, и г. Майков, конечно, поступил бы благоразумно, если бы не выходил из того миросозерцания, которое так долго служило ему путеводною литературного звездой. Скажут, быть может, что это миросозерцание слишком ограниченно, что почва, которую разработывал наш поэт, давно иссякла и что стоять на ней дольше невозможно. Но на это есть очень простое возражение. Поэт! если ты из миросозерцания своего выжал последние соки, то замолчи! ведь есть же на свете многие миллионы людей, которые не написали в жизнь свою ни одной строчки, и живут же! — отчего ж и тебе не последовать их примеру?
Но г. Майков не внял этому простому голосу и, начиная с 1854 года, вступил на почву политическую и социальную *. Он бичует и приветствует; бичует старую «клубнику», которую сам же воспевал; приветствует… приветствует всё ту же старую клубнику, которую он потому только мнит быть новою, что она окрещена «мудреными словами».
Рассмотрим сперва так называемую сатиру г. Майкова.
Сатира, как составной элемент, входит в значительную часть стихотворений г. Майкова, но вполне сатирическим по содержанию можно назвать только одно из них; это — «Другу Илье Ильичу». Так как оно очень длинно, то мы не будем его выписывать *, ибо хорошо понимаем, что прочесть такую тяжеловесную и в то же время вялую и бесцветную вещь — труд далеко не маловажный. Но признаемся, что, по запутанности своего содержания, оно представляет весьма любопытный психологический факт.