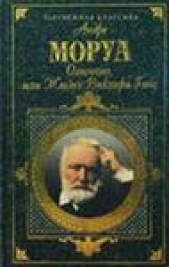Собрание сочинений. Том 2

Собрание сочинений. Том 2 читать книгу онлайн
Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде. Сын священника. Учился на юрфаке МГУ в 1926–1929 годах. Впервые был арестован за распространение так называемого Завещания Ленина в 1929-м. Выйдя в 1932-м, был опять арестован в 1937-м и 17 лет пробыл на Колыме. Вернувшись, с 1957 года начал печатать стихи в «Юности», в «Москве». В его глазах была некая рассеянная безуминка неприсутствия. Наверно, потому что он в это время писал свои «Колымские рассказы» и даже на свободе продолжал оставаться там, на Колыме. Эти рассказы начали ходить из рук в руки на машинке года с 1966-го и вышли отдельным изданием в Лондоне в 1977 году. Шаламова заставили отречься от этого издания, и он написал нечто невразумительно-унизительное, как бы протестуя. Он умер в доме для престарелых, так и не увидев свою прозу напечатанной. (Она вышла в СССР лишь в 1987-м.) Это великая «Колымиада», показывающая гениальное умение людей сохранить лик своей души в мире лагерного обезличивания. Шаламов стал Пименом Гулага, но и добру внимая отнюдь неравнодушно, и написал ад изнутри, а вовсе не из белоснежной кельи.
Во второй том Собрания сочинений В.Т. Шаламова вошли рассказы и очерки из сборников «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2», а также пьеса «Анна Ивановна».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Большая часть этих шестилетников умерла от работы, а кто выжил — были освобождены все в один день по решению XX съезда партии.
Над безучетниками — теми, кто прибыл на Колыму по списку, — трудился день и ночь аппарат правосудия, приехавший с материка. В тесных землянках, колымских бараках день и ночь шли допросы, и Москва принимала решения — кому пятнадцать, кому двадцать пять, а кому и высшая мера. Оправданий, очищений я не помню, но я не могу знать всего. Возможно, были и оправдания и полные реабилитации.
Всех этих следственных, а также шестилетников, тоже следственных по сути дела, заставляли работать по всем колымским законам: три отказа — расстрел.
Они прибыли на Колыму, чтобы сменить мертвых троцкистов или еще живых, но уставших до такой степени, что они не могли выбить не только грамма золота из камня, но и самого камня ни грамма.
Изменники родины, мародеры наполнили опустевшие за время войны арестантские бараки и землянки. Подновили двери, переменили решетки в бараках и землянках, перемотали колючую проволоку вокруг зон, освежили места, где кипела жизнь — а правильней сказать: кипела смерть — в тридцать восьмом году.
Кроме пятьдесят восьмой статьи, большое количество заключенных было осуждено по особой статье — сто девяносто второй. Эта сто девяносто вторая статья, вовсе не замеченная в мирное время, пышным цветом расцвела с первым выстрелом пушек, с первым разрывом бомб и стрельбой автоматов. Сто девяносто вторая статья в это время поспешно обрастала, как и всякая порядочная статья в такой ситуации, дополнениями, примечаниями, пунктами и параграфами. Появились мгновенно сто девяносто вторая «а», «б», «в», «г», «д» — пока не был исчерпан весь алфавит. Каждая буква этого грозного алфавита обросла частями и параграфами. Так — сто девяносто вторая «а», часть первая, параграф второй. Каждый параграф оброс примечаниями, и скромная с виду сто девяносто вторая статья раздулась, как паук, и напоминала дремучий лес своим чертежом.
Никакой параграф, часть, пункт, буква не карал менее пятнадцати лет и не освобождал от работы. Работа — это главное, о чем заботились законодатели.
Всех осужденных по сто девяносто второй статье ждал на Колыме неизменный облагораживающий труд — только общие работы с кайлом, лопатой и тачкой. И все же это была не пятьдесят восьмая статья.
Сто девяносто вторую давали во время войны тем жертвам правосудия, из которых не могли выжать ни агитации, ни измены, ни вредительства.
Или следователь по своим волевым качествам оказался не на месте, не на высоте и не сумел приклеить модного ярлыка за старомодное преступление, то ли сопротивление физического лица было таким, что следователю надоело, а о применении метода номер три он не решился дать указания. Этот следовательский мир имеет свои отливы и приливы, свою моду, свою подпольную борьбу за влияние.
Приговор — всегда результат ряда действующих, часто внешних причин.
Психология творчества здесь еще не описана, даже первые камни не положены в эту важную стройку времени.
Вот по этой-то сто девяносто второй статье и был завезен на Колыму с пятнадцатью годами срока минский инженер-строитель Михаил Иванович Новиков.
Инженер Новиков был тяжелый гипертоник с постоянным высоким давлением порядка двухсот сорока в верхней цифре аппарата Рива-Роччи.
Гипертоник нетранзитарного типа, Новиков жил постоянно под опасностью инсульта, апоплексического удара. Все это знали и в Минске, и в Магадане. На Колыму запрещалось возить таких больных — для этого и существовал медосмотр. Но с тысяча девятьсот тридцать седьмого года всеми медицинскими учреждениями тюрем, пересылок и лагерей — а для этапа Владивосток — Магадан этот приказ дважды подтверждали для заключенных спецлагерей, для КРТД и вообще для контингента, которому предназначалось жить, а главное — умирать на Колыме, — все ограничения по инвалидности и по возрасту были сняты.
Колыме предлагали самой выбросить шлак обратно по той же бюрократической дороге: акты, списки, комиссии, этапы, тысяча виз.
Действительного шлака назад привезли много.
Отправляли не только слабых и безногих, не только шестидесятилетних стариков в золотые забои, отправляли и туберкулезников и сердечников.
Гипертоник в таком ряду казался не больным, а здоровым краснорожим филоном, который не хочет работать, ест государственный хлеб. Пайку жрет без отдачи.
Таким краснорожим филоном и был в глазах начальства инженер Новиков, заключенный участка Барагон близ Оймякона дорожного управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей летом 1953 года.
Аппаратом Рива-Роччи, к сожалению, владеет не всякий медик Колымы, хотя считать пульс-то, чувствовать его наполнение должен уметь и фельдшер, и санитар, и врач.
Аппараты Рива-Роччи завезли на все медучастки — вместе с термометрами, бинтами, йодом. Но ни термометров, ни бинтов на том пункте, который я только что принял как вольный фельдшер — первая моя работа вольным за десять лет, — не было. Был только аппарат Рива-Роччи; он не был сломан, как термометры. На Колыме списать сломанный термометр — проблема, поэтому до списания, до актировки берегут все стеклянные черепки, как будто это приметы Помпеи, осколок какой-нибудь хеттской керамики.
Врачи Колымы привыкли обходиться не только без аппарата Рива-Роччи, но и без термометра. Термометр, даже в Центральной больнице, ставят только тяжелобольным, а остальным определяют температуру «по пульсу» — так же делают и в бесчисленных лагерных амбулаториях.
Все это мне было известно хорошо. На Барагоне я увидел, что Рива-Роччи в полном порядке, им только не пользовался фельдшер, которого я сменил.
На фельдшерских курсах я был хорошо обучен пользованию аппаратом. Практиковался миллион раз во время учебы, брал поручения перемерить давление у населения инвалидных бараков. Со стороны Рива-Роччи я был подготовлен хорошо.
Я принял списочный состав, человек двести, медикаменты, инструменты, шкафы. Не шутка — я был вольным фельдшером, хотя и бывшим зэка; я уже жил за зоной, не в отдельной «кабинке» барака, а в вольном общежитии на четыре топчана — много бедней, холодней, неуютней, чем моя кабинка в лагере.
Но мне надо было идти вперед, глядеть вперед.
Незначительные перемены в моем личном быту меня мало смущали. Спирт я не пью, а в остальном все было в пределах общечеловеческой, а значит, и арестантской нормы.
На первом же приеме меня дожидался у дверей человек лет сорока в арестантском бушлате, чтоб поговорить с глазу на глаз.
Я не веду в лагере разговоров с глазу на глаз — все они кончаются предложением взятки, причем обещанье или взятка делаются так, наугад, на всякий случай. В этом есть глубокий смысл, и когда-нибудь я разберусь в этом вопросе подробно.
Тут, на Барагоне, было что-то в тоне больного, заставившее меня выслушать просьбу.
Человек попросил осмотреть его еще раз, хотя проходил уже в общем осмотре — с час тому назад.
— В чем причина такой просьбы?
— А вот в чем, гражданин фельдшер, — сказал человек. — Дело в том, гражданин фельдшер, что я болен, а освобождения мне не дают.
— Как же так?
— Да вот, голова болит, стучит в висках.
Я записал в книгу: Новиков Михаил Иванович.
Я пощупал пульс. Пульс грохотал, частил, невероятно счесть. Я поднял глаза от минутницы-песочницы в недоумении.
— А вы можете, — зашептал Новиков, — пользоваться вон этим аппаратом? — он показал на Рива-Роччи на углу стола.
— Конечно.
— И мне можете смерить давление?
— Пожалуйста, хоть сейчас.
Новиков торопливо разделся, сел к столу и обернул манжетку вокруг своих «манжет», то есть рук, точнее, плеча.
Я вставил в уши фонендоскоп. Пульс застучал громкими ударами, ртуть в Рива-Роччи бешено бросилась вверх.
Я записал показания Рива-Роччи — двести шестьдесят на сто десять.
Другую руку!
Результат был тот же.
Я твердо записал в книгу: «Освободить от работы. Диагноз — гипертония 260/110».