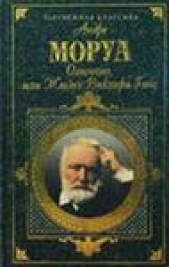Собрание сочинений. Том 2

Собрание сочинений. Том 2 читать книгу онлайн
Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде. Сын священника. Учился на юрфаке МГУ в 1926–1929 годах. Впервые был арестован за распространение так называемого Завещания Ленина в 1929-м. Выйдя в 1932-м, был опять арестован в 1937-м и 17 лет пробыл на Колыме. Вернувшись, с 1957 года начал печатать стихи в «Юности», в «Москве». В его глазах была некая рассеянная безуминка неприсутствия. Наверно, потому что он в это время писал свои «Колымские рассказы» и даже на свободе продолжал оставаться там, на Колыме. Эти рассказы начали ходить из рук в руки на машинке года с 1966-го и вышли отдельным изданием в Лондоне в 1977 году. Шаламова заставили отречься от этого издания, и он написал нечто невразумительно-унизительное, как бы протестуя. Он умер в доме для престарелых, так и не увидев свою прозу напечатанной. (Она вышла в СССР лишь в 1987-м.) Это великая «Колымиада», показывающая гениальное умение людей сохранить лик своей души в мире лагерного обезличивания. Шаламов стал Пименом Гулага, но и добру внимая отнюдь неравнодушно, и написал ад изнутри, а вовсе не из белоснежной кельи.
Во второй том Собрания сочинений В.Т. Шаламова вошли рассказы и очерки из сборников «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2», а также пьеса «Анна Ивановна».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Сенька, дай рыбину!
И Сенька, не останавливая телеги, опустив на минуту вожжи, выбрасывал в пыль огромную, двухметровую, сверкающую на солнце кету. Местный старичок, ночной сторож и фельдшер дежурный, когда я намекнул, что хорошо бы поесть что-нибудь, если есть у хозяев, (сказал:)
— Так ведь что дать-то? У нас есть суп из кеты, вчерашний, но — кета, не горбуша. Стоит. Возьми и погрей. Но ведь ты есть не будешь. Вчерашний мы, например, не едим.
Съев полкотелка этой вчерашней кеты и отдохнув, я пошел на берег купаться. Купание в Охотском море — грязном, холодном, соленом было известно, но в целях общего образования я поплавал немножко.
Поселок Ола был пыльным. Телега, проезжая, вздымала горы пыли. Но жара стояла давно, и обратится ли эта пыль в каменноподобную глину, как, например, в Калининской области, я так никогда и не узнал. День, проведенный мной в поселке Ола, помог мне увидеть две особенности этого северного рая.
Необычайное количество кур итальянской породы, белокрылых леггорнов — все хозяева держали только эту породу за яйценоскость, очевидно. Одно яйцо на магаданском базаре стоило сто рублей в те времена. И так как все куры похожи друг на друга, то каждый хозяин краской метил крылья своих кур. Комбинация цветов — если семи красок не хватало — куры были раскрашены, как футболисты (массовых) зрелищ, и (напоминали) парад государственных флагов или географическую карту. Словом, все, что угодно, только не куриное стадо.
Вторым были одинаковые заборы у домиков хозяев. Заборы были очень тесно прижаты к домику, усадьба была крошечная, но все-таки это была усадьба. А так как глухие заборы из досок или из колючей проволоки — привилегия государства, а российский палисадник — ненадежная изгородь для хозяина, то заборы всех домов на Оле были завешаны старыми сетями. Это создавало и красоту и колорит, будто весь ольский мир посажен на миллиметровку для тщательного изучения: рыболовные сети охраняли кур.
У меня была путевка на остров Сиглан — в Охотском море, но заведующая райотделом не взяла меня туда «по анкете» и предложила вернуться обратно в Магадан. Большой потери я не ощутил — получил документы. Случайно эти мои путевки сохранились. Надо было добраться до Магадана, сесть на тот же самый катер, который привез меня сюда. Это оказалось непросто, и не потому, что я был какой-то беспаспортный бродяга или бывший зэка.
Моторист катера жил в самой Оле постоянно, и вытолкнуть его на свой катер, на свою работу оказалось очень непросто. После трех дней пьянства и простоя катера моториста наконец вывели под руки из родной избы и медленно повели, то опуская его на землю, то поднимая, километра два до причала, где стоял катер и набралась большая группа пассажиров — человек десять. Вели его не меньше часу, а то и два. Огромная туша приблизилась, влезла в рулевую будку, запустила мотор «Кавасаки». Катер дрогнул, но до отъезда было еще очень далеко. После всяких обиваний, оттираний руки моториста заняли привычное положение на штурвале. Девять пассажиров из десяти (десятым был я) бросились к рулевой будке, умоляя остановить и вернуться домой. Время отлива упущено, в Магадан не попасть вовремя. Все равно придется возвращаться или дрейфовать в открытом море. В ответ раздался рев моториста, что он в рот и в нос всех пассажиров катера, он, моторист, не упустит прилив. «Кавасаки» помчался в открытое море, и жена моториста обошла пассажиров с шапкой «на опохмелку» — я дал пятерку. И вылез на палубу посмотреть, как играют нерпы, киты, как приближается Магадан. Магадана тут не было, но берег, скалистый берег, к которому мы все шли, шли и не могли подойти.
— Прыгай, прыгай, — вдруг услышал я совет какой-то женщины, путешествующей не впервые морем Ола — Магадан, — прыгай, прыгай, я тебе кину чемоданы, тут еще достанешь до дна.
Женщина прыгнула и протянула руки вверх. Море ей было по пояс. Понимая, что прилив не ждет, я кинул в море оба своих чемодана — вот когда я благословлял блатарей за мудрый их совет, — и спрыгнул сам, ощутив скользкое, но крепкое, надежное дно океана. Я поймал в волнах свои чемоданы, подвергшиеся действию не только морской соли, но и закона Архимеда, и двинулся к берегу вслед за своими попутчиками, которые с чемоданами над головой приближались к берегу, перегоняя волны прилива, выбрался на пирс бухты Веселой, помахав рукой Оле и мотористу — навсегда. Моторист, увидев, что все пассажиры благополучно выбрались на пристань, развернул «Кавасаки» и ушел в Олу — допивать то, что осталось.
1973
Подполковник медицинской службы
На Колыму подполковника Рюрикова привела боязнь старости — дело шло к пенсии, а северные оклады были вдвое выше московских. Подполковник медицинской службы Рюриков не был ни хирургом, ни терапевтом, ни венерологом. В первые годы революции он — рабфаковцем — пришел на медицинский факультет университета, закончил его как невропатолог, но все давно забыл — он никогда, ни одного дня не работал лечащим врачом — он был всегда администратором — главным врачом больницы, заведующим. Вот и сюда он приехал начальником большой больницы для заключенных — Центральной больницы на тысячу коек. Не то что ему не хватало оклада начальника одной из московских больниц. Подполковнику Рюрикову было далеко за шестьдесят, и жил он одиноко. Дети его были взрослые — все трое работали где-то врачами, но Рюриков и слышать не хотел, чтобы жить на средства детей или пользоваться их помощью. Еще в юности выработал он себе на сей счет твердое убеждение, что ни от кого никогда зависеть не будет, а если случится так, то лучше умрет. Была и еще одна сторона дела, о которой подполковник Рюриков даже и себе старался не рассказывать. Мать его детей умерла давно, взяв с Рюрикова странное слово перед смертью — никогда ни на ком больше не жениться. Рюриков дал это слово покойнице и с тех пор, с тридцати пяти лет, твердо это слово держал, никогда не пытаясь даже подумать о каком-то ином решении вопроса.
Ему казалось, что он если подумает об этом иначе, то тронет что-то такое болезненное и святое, что хуже всякого кощунства. Потом он привык, и ему не было трудно. Никому он не рассказывал об этом, ни с кем не советовался — ни с детьми, ни с женщинами, с которыми он был близок. Та женщина, с которой он жил последние годы, врач его больницы, от первого мужа имела детей — двух девочек-школьниц, и Рюрикову хотелось, чтоб и эта его семья жила хоть немного лучше. Это была вторая причина, заставившая его предпринять такое серьезное путешествие.
Была и третья причина — мальчишеская. Дело в том, что подполковник Рюриков нигде в своей жизни не бывал, нигде, кроме Тумского района Московской области, откуда он был родом, и самого города Москвы, где он рос, учился, работал. Даже в молодые годы до женитьбы и в годы обучения в университете Рюриков ни одного отпуска и ни одних каникул не провел иначе, как у своей матери в Тумском районе. Ему казалось неудобным, неприличным поехать в отпуск на курорт или куда-либо еще. Он слишком боялся укоров собственной совести. Мать жила долго, переезжать к сыну не соглашалась, и Рюриков понимал ее — прожившую жизнь в родном селе. Мать умерла перед самой войной. На фронт Рюриков не попал, хотя и облачился в военную форму, и всю войну был начальником госпиталя в Москве.
Он не бывал ни за границей, ни на юге, ни на востоке, ни на западе и часто думал, что вот он скоро умрет и так ничего и не повидает в жизни. Особенно его волновали и интересовали арктические полеты и вообще вся эта необычайная, романтическая жизнь завоевателей Севера. Не только Джек Лондон, которого подполковник очень любил, поддерживал в нем интерес к Северу — но и полеты Слепнева и Громова, дрейф «Челюскина».
Неужели он так и проживет свою жизнь, не повидав самого заветного? И когда ему предложили поездку на Север на три года — Рюриков сразу понял, что это — исполнение всех его желаний, что это удача, награда за весь его многолетний труд. И он согласился, не советуясь ни с кем.