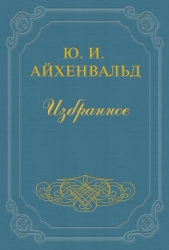Путешествие Глеба

Путешествие Глеба читать книгу онлайн
В четвертом томе собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) печатается главный труд его жизни – четырехтомная автобиографическая эпопея «Путешествие Глеба», состоящая из романов «Заря» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950) и «Древо жизни» (1953). Тетралогия впервые публикуется в России в редакции, заново сверенной по первопечатным изданиям. В книгу включены также лучшая автобиография Зайцева «О себе» (1943), мемуарный очерк дочери писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб «Я вспоминаю» и рецензия выдающегося литературоведа эмиграции К. В. Мочульского о первом романе тетралогии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Осмотревши усадьбу, вернулись. Жена управляющего накрывала уже во флигеле – лысый Иннихов припас водчонки. И яичница на сковороде, щи, престарелый петух – все в сопровождении национальной нашей славы: «Чи-ик! По единой, ваше здоровье!» – все развивалось естественно, при жужжании мух, нежном веянии июньском из окна.
Водочка благотворно действует и на отца и на Кноррера. Начинаются охотничьи рассказы. Глеб все это знает, все отцовы прибаутки, и веселый его хохот над воображаемым русским немцем, языком его. («Он бегу-иль, я стрелу-иль – с дробами!» и т. п.) Известна и ближайшая программа: отец начнет называть Кноррера «кумом», потом ляжет вздремнуть, потом пойдут межи осматривать, сверять землю с планом.
Глеб под шумок вышел. Около людской, налево, Иннихов разговаривал с двумя тощими типами – длинные палки у них в руках, за спиною котомки. Запыленные лапти, спутанные бороденки, рубахи в заплатах. Нечто смиренно-покорное и усталое.
Вот отошли они, сели на лавочку, вынули по ломтю хлеба, стали жевать. Медленно, как бы с вековой утомленностью. «Кто это?» – спросил Глеб Иннихова. «А так, барин, мордва… Работки нет ли, спрашивают. Мордвины, значит. Издалеча. На работку набиваются. Да нам не для ча. Ежели папаша купят, хозяйство заведут, а у нас тут делов никаких нет, только с супругой караулим усадьбу». Глеб вздохнул, почему-то взглянул в небо. Иннихов на него посмотрел – взором этих сараев, людских, конюшен. «Именьице, если в порядок привести, золотое дно. Пусть папаша решаются».
Глеб опять пошел мимо дома, жасмина, двух прудов вниз по склону сада – вновь любовался и волновался сказочным оцепенением краев этих. Солнце обсушило теперь влагу. Тропинкой чрез кусты акаций – изгородь фруктового сада – спустился к речке. Сладко, мучительно-нежно пахло пригретою луговою травой. Тут же песочек прибрежный, поблескивающая вода, легонькая трясогузка… – все это уж он знал, в этом рос с младенчества и не было все же конца очарованию простодушной речки с лозняком полуплывущим в ней, медленно вьющимися, по теченью, бархатно-зеленеющими подводными травами, скользящими как угри, со стайкою мелких гольцов под золотой рябью солнца. Да будет благословенно имя Господне!
На той стороне прошел рощей березовой – всегдашняя девическая чистота! – поднялся в поле. Отсюда Прошино казалось зелено-кудрявой чашей. Далекий вид открылся на поля в блеске солнца, на взгорья, леса. Прямо внизу, но в другой стороне серела деревянная колокольня. Это Поповка, село и ближайшая церковь, он вспомнил, что видел ее, когда подъезжали.
Глеб сел на меже, у опушки, в тени берез, нежно за ним струившихся. Ему нравилось, что вот это его страна, его солнце, небо, свет, воздух, все такое, о чем может он и должен сказать. Волнение продолжалось. Да, это поэтическое волнение! Пусть Иннихов рассуждает о коровах. Он, Глеб, для другого. Так было, так будет.
Внизу, слева, меж серо-зеленых ржей появились на тропке две фигуры. Медленно они подвигались. Рыжеватые бороденки, в руках длинные палки, за плечами котомки. Ржи точно пред ними раздвигались. Потом вновь смыкались, в серебристых волнах. Глебу нравилось смотреть на мордвинов этих, мирно среди ржей шагавших, с ними будто сливавшихся. Милая Россия, тихая, смиренная! Он полузакрыл глаза. А может, они ржами и порождены? Вон шагают, и все дальше, ржи все загребают, все их поглощают. Из ржей вышли и во ржах потонут.
Он вернулся возбужденный, острый, точно наполненный. Отец кончил уж осмотр хозяйства. Говорил теперь с Кноррером. «Ну, покупаем?» – сказал Глебу вполголоса, садясь в тарантас. – «Покунаем, конечно».
Посевы, пахота, работники, поденные, покос, уборка, целый круговорот земли, с хлопотами и заботами, волнением от заходящей тучи, огорчением, когда нет дождя, боязнью ранних холодов весенних, для садов опасных, – все это жизнь деревни. Отец бросил Москву. Ездил теперь по полям тульским на дрожках, сердился на Иннихова, выставлял водку косарям, учил кучеров объезжать молодую лошадь – занятие занятное. Мать ведала цветником, огородом, амбарами. Во все это Глеб вклинивался довольно-таки инородно. Из Москвы приезжал в Прошино и зимой, летом же подолгу жил, у себя во флигеле. Жил и жил, был еще один, и часто ему казалось, что вот в Прошине этом хоть и милая усадьба, пруды, сад, а все-таки скучно. Благодати же этого жития деревенского, напояющей силы России, приволья ее и свободы еще не понимал, не ценил – в этом с Устов рос. Так и надо. Другого не знал.
Землю, поля, мужиков принимал родственно, душою и поэтически, но с огромного расстояния. Да, родина. Но насколько иной мир, хоть и отделенный всего огородом. Времена Савосек, Сасеток, детской общительности отошли. Владимир Соловьев, греческая скульптура, переписка Флобера. Мужики, бабы, девки – в чем-то родное и милое, но и далекое. Он их стеснялся. Частью – даже робел. Странный он в их глазах, «чудной».
Все-таки, на покос иногда выходил. Навивал с девками воза сена, хохотал с ними, валялся на копнах, беглые поцелуи проносились легко да и незаметно, среди вечных шалостей, возбуждения, подъема и радости русского покоса. Кареглазая Паша, крупная и свежая, вся благоволение и сила полей наших, ему даже нравилась. Раза два он ее провожал на заре до риг, там среди ржей дружелюбно они целовались. Но все это скользило, летело, оставляя след лишь мгновенный.
Настоящее, чем он жил, было внутреннее – писание, искание. Он много работал у себя во флигеле. Днем сам писал, ночью читал. До рассвета иной раз горела у него лампа и его можно было принять за чернокнижника. Но скорее он был белокнижник. Соловьев проводил по высотам – Бог, человек, мировая душа, ход Вселенной. Уже не Глеб простодушной Калуги, о. Парфения, подходил к вечным тайнам, а молодой писатель начинавшейся новой эпохи русской. Голосу русской души и поэзии надлежало издать свой звук, отличный от прежнего. Но и самой душе надлежало определиться. Это не сразу давалось. Бог, Вечность, бессмертие мучили. Соловьев раздвигал нечто, стройный и величавый, многоводный и гармонический. Глеб уходил в него с возбуждением, страстью молодости. Мир и его движение восхищали. Все же надо было на чем-то остановиться, иметь и свой взгляд. Он колебался, нередко томился, изнемогал. Но река уносила его, светлая и многоводная, все дальше и дальше от безысходности отрочества.
Против такой жизни Глеба мать ничего не имела. Правда, слишком он много с книгами, но такой уж был с детства, Herr Professor. А теперь, раз литературой занялся, так еще и понятнее. С родителями мил, как всегда, замкнут и несколько отдален, но уж это его характер. И свою роль мать понимала так, чтобы к полудню, когда сыночка соблаговолит встать, кофе ему на балконе подали бы горячее, и со сливками, и по возможности оттянуть обед, чтобы к цыплятам он успел проголодаться. Чтобы к обеду, ужину было то, что он любит. Чтоб во флигеле у него был порядок, чтоб его верхового конька не брали на работу.
На второе лето, однако, многое изменилось. По внешности будто и то же: Глеб перешел на следующий курс, приехал в той же студенческой тужурке и фуражке с голубым околышем, был такой же худощавый и остроугольный, но такой, да и не такой.
Как и в прошлом году, мать до трех, четырех часов видела наискосок, со своей постели через садик свет в окне флигеля: Глеб занимается. Косари, мерно позвякивая косами, побрякивая брусками, проходили по утренней росе в Салтыково, а он растворял окно, смотрел на любимую свою яблоню аркад через дорогу, на ракиту, под которою любил сидеть. Все это и раньше было. Но теперь стал он нервнее и порывистей, еще замкнутей, иногда вдруг раздражался или впадал в возбуждение, много писал, потом рвал. Ждал писем, много сам отправлял их. Видимо, падал духом, когда чего-то не получал. Усвоил привычку забирать ружье, уходить в лес. Нравилось переходить через Апрань, забираться в осинник по взгорью, сидеть, лежать там, воображая себя лейтенантом Гланом Гамсунова «Пана», слушать – в воображении – «первую железную ночь, вторую железную ночь», наблюдать ход облаков, полет ястребов – их иногда он и стрелял. А потом вдруг мучительно в Прошине становилось скучно. Глеб впадал в уныние и замолкал. Лунатически вокруг комнаты не ходил, но к обеду являлся хмурый, точно в туче.