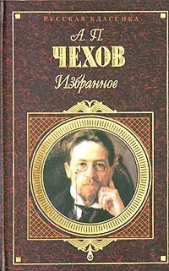Цвет и крест

Цвет и крест читать книгу онлайн
Издание состоит из трех частей:
1) Два наброска начала неосуществленной повести «Цвет и крест». Расположенные в хронологическом порядке очерки и рассказы, созданные Пришвиным в 1917–1918 гг. и составившие основу задуманной Пришвиным в 1918 г. книги.
2) Художественные произведения 1917–1923 гг., непосредственно примыкающие по своему содержанию к предыдущей части, а также ряд повестей и рассказов 1910-х гг., не включавшихся в собрания сочинений советского времени.
3) Малоизвестные ранние публицистические произведения, в том числе никогда не переиздававшиеся газетные публикации периода Первой мировой войны, а также очерки 1922–1924 гг., когда после нескольких лет молчания произошло новое вступление Пришвина в литературу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Теперь уже кончено смертельное напряжение, нам теперь ясно, что враг спешит отступать, но видно по лицам, что человек еще живет тем особенным светом, – не жестокости, как можно бы ожидать, а отречения. Да и эти серые, грубые шинели связывались где-то в моем представлении с черными рясами отречения.
Фонарики зрения у них такие маленькие, поражают простотой их попытки рассказать, что с ними было. За день я слышал множество рассказов и записываю их вечером в том порядке, как они мне припоминаются.
Маленький этапный прапорщик смотрел с улыбкой, как лошади беженцев воровали казенное сено. Я подошел к нему и спросил что-нибудь рассказать о себе во время отступления из Пруссии.
– Я в обозе, я не воевал.
– Что-нибудь из обозного.
Прапорщик стал рассказывать о какой-то серой лошади с человечьими глазами. Отступали в порядке так, как и было об этом написано, но все-таки нужно было спешить. Приводят казаки серую лошадь, прекрасную, а ноги отчего-то не разгибаются – упрется и стоит. Окрутили ноги соломой – не идет, били кнутом, ничего не выходит – стоит. А нужно нам двигаться непременно, – не стоять же из-за лошади. Прапорщик уже приставил ей к уху револьвер, а она тут и посмотрела на него человечьими глазами. Пожалел, разломали одну польскую повозку, уложили и повезли. Сколько перенес неприятностей из-за нее от этапного, а вот все не может прикончить, думает – выздоровеет. Прибыли на место, у нее начались судороги.
– Черт знает, какая баба! – сказал боевой старый капитан с клюквенным носом. – Вы были обязаны ее прикончить!
– А вот не мог!
– Попадись мне и человек такой, я бы облегчил.
– Неужто бы облегчили?
– Спросил бы, как он желает, конечно, а потом бы и облегчил. Прапорщик выразительно посмотрел на меня и ничего не сказал капитану. Я спросил прапорщика, кем он был в мирное время.
– Бухгалтером.
– Спрашиваете, как себя чувствуешь, когда потеряешь связь? Очень скверно себя чувствуешь. Выслали из… обоз на север, а мы тоже на север впереди едем; про обоз ничего не слыхали. Видим: немцы свернули на запад, а обоз – прямо на немцев. Вот немцы увидели нас – за нами, догонят нас, а обоз идет за немцами. Дорога шоссейная, рядом – простая, мы – по шоссейной, немцы – по простой; по обеим сторонам дороги – леса; ни им, ни нам развернуться нельзя. Едем близехонько: мы – впереди, за нами – немцы, за немцами – наш обоз. Под вечер видим впереди, на дороге, стоит большая 42-х-сантиметровая пуговица. Подошли мы к ней… Ну, что сделаешь? Митюхи поглядели, покачали хоботом, видим, не взять ее никакой силой, – бросили, отошли и оглядываемся: что немцы с ней делать станут? Вечерело; наши Митюхи цигарки курят, глядят, а у тех – фонарики. Бились-бились, восьмерку лошадей запрягли – не берет. Потом стали вбок забирать, в лес; все и ушли, а та штука осталась. Видим: немцы ушли, мы – ночевать, а утром и наш обоз подошел – опять оглядывать пушку. Поглядели-поглядели и бросили. Так она и потеперь стоит там одна, и никому не взять: выдумали тетку больше себя.
Я спросил, почему же немцы ушли.
– Дали дрелимона, – сказал капитан. Сыграли Дрейфуса.
На этом фронте мне ново было встретиться с каким-то особенным отношением наших солдат к германцам: наступление колоннами, заведомо обреченными на полное истребление, вызывает, с одной стороны, большое уважение, а с другой – чувство, похожее на то, когда хорошему охотнику приходится стрелять в сидячую птицу. Теперь давно уже нет тайного страха перед наступающим на нашу землю железным механизмом: механизм часто ломается целыми частями, из-под него показывается человек, и это вызывает то новое для меня на этом фронте отношение к «немцу». Мне рассказывал артиллерийский офицер, как он выехал из своего «кабинета» посмотреть действие наших снарядов за высотой 103, – батарею, стрелявшую по невидимой цели. Вот увидели действие пулеметного и ружейного огня на колонну: целая колонна германцев лежит на дороге почти в полном боевом порядке. Приехали в деревню, куда был направлен огонь всех батарей.
Деревня вся сгорела дотла; везде валяются оторванные конечности, а самих тел нигде нет; объехали всю деревню кругом – нигде нет убитых и нет могил. В роще обратили внимание на широкую полосу, похожую на дорогу, – не тут ли? Покопались и… да, эта проведенная машиной дорога была громадной могилой; машина провела ров аршина полтора глубиной; положили тела, засыпали, прогнали войско, и могила стала дорогой.
Отзвуки войны
Ничего нет наивнее и хуже, как в наше время скрывать что-то от народа. Хуже ничего нет, потому что сам же народ больше всяких властей его хочет победы, наивнее ничего нет, потому что как ни малограмотен народ, но в такое время все становятся как бы грамотными. Как будто можно бросить камень в пруд и запретить воде волноваться.
Живу я в довольно глухом месте, нарочно посылаю в город три раза в неделю, и все-таки, если что-нибудь совершается выдающееся, большей частью узнаю я от кого-нибудь из местных малограмотных людей. Так вот и в этот раз чуть ли не раньше газет узнал я от простых мужиков про события возле Государственной думы.
Понятие, выбранное парламентской историей и произнесенное теперь у нас, вызвало из недр простого народа широкий отклик совести. И еще бы не вызвать, когда каждый, самый даже темный крестьянин, понимает, что не армия виновата, а внутренность, снабжающая армию. Можно себе представить, какое впечатление на простой народ на почве больной «внутренности» вызвало известие о министерстве общественного доверия. Ответственное министерство в народе называется просто «ответственностью». Спросишь говорящего об ответственности, кто и перед кем должен отвечать.
Ответят – сподручники.
Так называется правительство.
И на вопрос, перед кем отвечают сподручники, говорят:
– Перед Государем, народом и Думой.
Иногда прибавят, что Государственный Совет – это лишнее, от него только путаница.
Иногда кроме сподручников называют хищников-купцов, всех, кто наживается на несчастье войны, а то даже назовут какое-нибудь лицо, более других виноватое в недостаточном снабжении армии. Странно бывает послушать, как этот народ, мирный и малосведущий в истории, начинает теперь по-своему обсуждать понятия, выработанные историей других народов.
Первую весть об этой «ответственности» занес мне Хорь. Мне уж не раз приходилось писать здесь, что у меня есть сосед-хуторянин, тот самый не умирающий тургеневский Хорь, который в противоположность самому углубленному Калинычу, занят вопросами общественности.
– В Думе заявили ответственность, – сказал Хорь. И сейчас же добавил: Теперь ему пощады не будет. «Его» Хорь назвал по имени, главного виновника в недостаточном снабжении армия.
– … вовсе Россия, – продолжал Хорь, – но, может быть, теперь будет у нас настоящая власть.
– Какая же это будет власть? – спросил я.
– Административная, – ответил Хорь.
Конечно, я был поражен: в другое время кто же больше Хоря этого бранил нашу административную власть, слушая его беспощадную критику, можно было считать его за отчаянного революционера, говори он свои речи не на своем уединенном хуторе, а в селе, так давно бы ему в кутузке сидеть, и тут вдруг этот же Хорь понимает ответственное министерство как торжество административной власти.
– Что эти суды и пересуды, – говорит Хорь, – таскался я много лет по судам, нам нужна власть твердая, короткая, неукоснительная и справедливая.
– Может быть, такая божественная власть?
– Божественная власть, конечно, такая, только до Бога далеко, а у нас на земле власть административная.
Понятно было одно, что это не та наша обыкновенная власть, а новая, идеальная, – пахарь взалкал по хорошей власти.