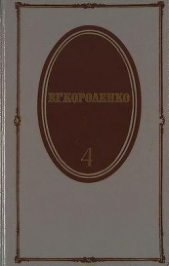Том 5. История моего современника. Книги 3 и 4

Том 5. История моего современника. Книги 3 и 4 читать книгу онлайн
В том включены третья и четвертая книги обширного автобиографического полотна «История моего современника», в раздел «Приложения» — дополняющие его очерки, незаконченная повесть «Полоса», не вошедшие в основной текст главы, а также написанные в разное время автобиографии писателя
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Было это уже весной, подходили экзамены, наши вечера и танцы прекратились, потом мы уехали на каникулы в деревню. А когда опять подошла осень и мы стали встречаться, я увидел, что наша непрочная взаимная симпатия оказалась односторонней. Задатки этой драмы были даны вперед. Мы были одногодки. Я перешел в пятый класс и оставался по-прежнему мальчишкой, а она стала красивым подростком пятнадцати лет, и на нее стали обращать внимание ученики старших классов и даже взрослые кавалеры.
Я почувствовал себя глубоко несчастным… Однажды, на одном из наших вечеров, появился мой товарищ Колотковский. Это был малый очень добрый, очень поверхностный и легкомысленный, с которым мы были довольно дружны. Но когда он в первый раз пустился танцевать мазурку, то оказалось, что этот маленький верткий разбойник сразу затмил всех нас, учеников мосье Одифре. Он выделывал ногами такие изумительные штуки, и притом с такой удалой грацией и непринужденностью, что даже старшие толпились по стенам и заглядывались на юного танцора. Сначала я тоже с искренним восхищением смотрел на своего ловкого товарища, пока в какой-то фигуре Лена, с раскрасневшимися щеками и светящимся взглядом, подавая мне руки для какого-то кратковременного оборота, не сказала:
— Ах как он танцует! Почему бы вам не танцевать так же…
Эта короткая фраза ударила меня, точно острие ножа. Я сразу почувствовал, как поверхностны и ничтожны были мои надежды: я не мог ни так танцевать, ни так кланяться, ни так подавать руку: это был прирожденный талант, а у меня — только старательность жалкой посредственности. Значит… я неизбежно обману ее ожидания, вернее, она уже видит, что во мне ошиблась.
Но Колотковский все-таки был только добрый малый, шансы которого ограничивались мазуркой. Настоящую ревность возбудил во мне другой мой товарищ, учившийся в одном классе со мной, — некто Мощинский. Это был сын богатого помещика-поляка, года на два старше меня, красивый блондин, с нежным, очень бледным лицом, на котором как-то особенно выделялись глубокие синие глаза, как два цветка, уже слегка опаленные зноем. Взгляд их был как-то спокойно-печален и ласков, и во всех манерах этого гимназиста сквозило какое-то мягкое, почти болезненное изящество. Он не танцевал вовсе,а между тем в первый же раз, как я увидел его на ученическом вечере, в клубе, рядом с Леной, я сразу почувствовал, что исключительно «благовоспитанный молодой человек», которого редко можно встретить в нашем городишке, — это именно он, этот хрупкий, но стройный юноша, с такой лениво-непринужденной грацией присевший на стул рядом с Леной. Мне хотелось утешить себя мыслью, что Мощинский, учившийся довольно плохо, — в сущности, ограниченный барчук, изнеженный и неспособный. Но тотчас же я почувствовал, что это неверно: в сущности, я совсем не знал его, и уже то, что его нелегко было разгадать, делало его интересным и оригинальным. И я скоро сказал себе, что он мне самому решительно нравится и что в нем есть, как свое, прирожденное, настоящее — то самое, за чем я гнался напрасно, как напрасно воображал себя польским рыцарем или героем гайдамацких набегов… И я даже сблизился с ним одно время, совершенно искренно восхищаясь неуловимым изяществом его взгляда, речи, всего обращения… Он относился ко мне, как и ко всем, просто и ласково, но под этой лаской чувствовалось не то доброжелательное равнодушие, не то какой-то недосуг. Он и не знал, что я считаю его опасным соперником, но вскоре он получил такой шанс, который делал всякое соперничество смешным. Он заболел скоротечной чахоткой и через два месяца умер.
В городе говорили, что он был влюблен в Лену, что его отец сначала не хотел слышать об этой любви, но потом дал согласие: года через два Мощинский должен был оставить гимназию и жениться. Но все это были, кажется, пустые толки, которым отчасти содействовал отец Лены, человек несколько легкий и гордившийся дочерью…
В прекрасный зимний день Мощинского хоронили. За гробом шел старик отец и несколько аристократических господ и дам, начальство гимназии, много горожан и учеников. Сестры Линдгорст, с отцом и матерью, тоже были в процессии. Два ксендза в белых ризах поверх черных сутан пели по-латыни похоронные песни, холодный ветер разносил их высокие голоса и шевелил полотнища хоругвей, а над толпой, на руках товарищей, в гробу виднелось бледное лицо с закрытыми глазами, прекрасное, неразгаданное и важное.
Я тоже шел за гробом и чувствовал себя глубоко несчастным. Мне было искренно жаль Мощинского, и, кроме того, в душе стояла какая-то пустота, сознание своего ничтожества перед этой смертью. Я не мог умереть от любви так, как умер он, да, правду сказать, и не хотел этого. Иной раз, положим, в воображении я даже умирал, ради последовательности действия, но всякий раз так, чтобы каким-нибудь способом опять воскреснуть… Я был крепок, здоров, все мне давалось легко, но инстинктивно я чувствовал, что душа моя запуталась в каких-то бездорожьях, в погоне за призраками и фантазиями. Самый милый из этих призраков — была девочка в серой шубке, которую я когда-то потерял во сне, а теперь теряю уже наяву. Вот она идет недалеко, с этим знакомым лицом, когда-то на минуту осветившимся таким родственным приветом, а теперь опять почти незнакомая и чужая. А я отказываюсь от воображаемой своей личности — изящного молодого человека — и остаюсь… с чем же? Что я такое? Что из меня может выйти? К чему мне стремиться и что из себя сделать?..
Все это я скорее чувствовал в глубине души, как спутанный комок ощущений, чем сознавал в таком оформленном виде. Моя маленькая драма продолжалась: я учился (неважно), переходил из класса в класс, бегал на коньках, пристрастился к гимнастике, ходил к товарищам, вздрагивал с замиранием сердца, когда в знойной тишине городка раздавалось болтливое шарканье знакомых бубенцов, и все это время чувствовал, что девочка в серой шубке уходит все дальше… Чувство, очевидно, было упорно и глубоко: оно держалось года три и уходило только постепенно… Но долго еще оно держало меня в каком-то безвольном рабстве, превращаясь тоже в своего рода навязчивую идею.
Как я от него избавился, как постепенно начал опять находить себя и какую благодарную роль в этом процессе играла русская литература — об этом я расскажу еще в заключительных главах моей юности.
Теперь мне придется пригласить читателя в деревню, которая тоже играла важную роль в этой запутанной душевной истории.
Мое первое знакомство с Диккенсом *
Первая книга, которую я начал читать по складам, а дочитал до конца уже довольно бегло, был роман польского писателя Коржениевского — произведение талантливое и написанное в хорошем литературном тоне. Никто после этого не руководил выбором моего чтения, и одно время оно приняло пестрый, случайный, можно даже сказать — авантюристский характер.
Я следовал в этом за моим старшим братом.
Он был года на два с половиной старше меня. В детстве это разница значительная, а брат был в этом отношении честолюбив. Стремясь отгородиться всячески от «детей», он присвоил себе разные привилегии. Во-первых, завел тросточку, с которой расхаживал по улицам, размахивая ею особенным образом. Эта привилегия была за ним признана. Старшие смеялись, но тросточки не отнимали. Было несколько хуже, что он запасся также табаком и стал приучаться курить тайком от родителей, но при нас, младших. Из этого, положим, ничего не вышло: его тошнило, и табак он хранил больше из тщеславия. Но когда отец как-то узнал об этом, то сначала очень рассердился, а потом решил: «Пусть малый лучше читает книги». Брат получил «два злотых» (тридцать копеек) и подписался на месяц в библиотеке пана Буткевича, торговавшего на Киевской улице бумагой, картинками, нотами, учебниками, тетрадями, а также дававшего за плату книги для чтения. Книг было не очень много и больше все товар по тому времени ходкий: Дюма, Евгений Сю, Купер, тайны разных дворов и, кажется, уже тогда знаменитый Рокамболь…