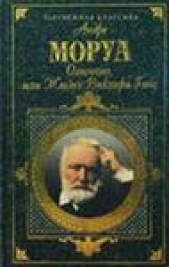Собрание сочинений. Том 2

Собрание сочинений. Том 2 читать книгу онлайн
Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде. Сын священника. Учился на юрфаке МГУ в 1926–1929 годах. Впервые был арестован за распространение так называемого Завещания Ленина в 1929-м. Выйдя в 1932-м, был опять арестован в 1937-м и 17 лет пробыл на Колыме. Вернувшись, с 1957 года начал печатать стихи в «Юности», в «Москве». В его глазах была некая рассеянная безуминка неприсутствия. Наверно, потому что он в это время писал свои «Колымские рассказы» и даже на свободе продолжал оставаться там, на Колыме. Эти рассказы начали ходить из рук в руки на машинке года с 1966-го и вышли отдельным изданием в Лондоне в 1977 году. Шаламова заставили отречься от этого издания, и он написал нечто невразумительно-унизительное, как бы протестуя. Он умер в доме для престарелых, так и не увидев свою прозу напечатанной. (Она вышла в СССР лишь в 1987-м.) Это великая «Колымиада», показывающая гениальное умение людей сохранить лик своей души в мире лагерного обезличивания. Шаламов стал Пименом Гулага, но и добру внимая отнюдь неравнодушно, и написал ад изнутри, а вовсе не из белоснежной кельи.
Во второй том Собрания сочинений В.Т. Шаламова вошли рассказы и очерки из сборников «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2», а также пьеса «Анна Ивановна».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Был красавец парень лет двадцати восьми, десятник на больничном строительстве, заключенный Васька Швецов. Больница была при женском совхозе, надзор слабоват, да и закуплен — Васька Швецов пользовался сногсшибательным успехом.
— Много я знал баб, много. Дело это простое. Только ведь, верите, дожил почти до тридцати лет и ни разу еще с бабой в кровати не лежал — не пришлось. Все второпях, на каких-то ящиках, мешках, скороговоркой… Я ведь с мальчиков в тюрьме-то…
Другой был Любов, блатарь, а скорее «порчак», «порченый штымп» — а ведь из «порченых штымпов» выходят люди, которые по своей злобной фантазии могут превзойти болезненное воображение любого вора. Любов, высокий, улыбающийся, нагловатый, постоянно в движении, рассказывал о своем счастье:
— Везло мне на баб, грех сказать, везло. Там, где я до Колымы был, — лагерь женский, а мы — плотники при лагере, нарядчику брюки почти новые, серые отдал, чтоб туда попасть. Там такса была, пайка хлеба, шестисотка, и уговор — пока лежим, пайку эту она должна съесть. А что не съест — я имею право забрать назад. Давно они уж так промышляют — не нами начато. Ну, я похитрей их. Зима. Я утром встаю, выхожу из барака — пайку в снег. Заморожу и несу ей — пусть грызет замороженную — много не угрызет. Вот выгодно жили…
Может ли придумать такое человек?
И кто представит себе женский лагерный барак ночью, барак, где все — лесбиянки, барак, куда не любят ходить сохранившие каплю человеческого надзиратели и врачи и любят ходить надзиратели-эротоманы и врачи-эротоманы. И плачущая Надя Громова, девятнадцатилетняя красавица, лесбиянка — «мужчина» лесбийской любви, подстриженная под бокс, в мужских штанах, усевшаяся, к ужасу санитаров, на заповедное кресло заведующей приемным покоем — только одно, сделанное на заказ, кресло вмещало зад заведующей, — Надя Громова, плачущая оттого, что ее не кладут в больницу.
— Дежурный врач не кладет меня потому, что думает, что я… а я, клянусь честью, никогда, никогда. Да посмотрите мои руки — видите, ногти какие длинные, — разве можно?
И возмущенный старик санитар Ракита негодующе плюнул: «Ах, стерва, стерва».
А Надя Громова плакала и не могла понять, почему никто не хочет ее понять — ведь она выросла в лагерях, около лесбиянок.
И слесарь-водопроводчик Харджиев, молодой, розовощекий, двадцатилетний, бывший власовец, сидевший в тюрьме в Париже за воровство. В парижской тюрьме Харджиева изнасиловал негр. У негра был сифилис — того самого острого сорта последней войны — у Харджиева в заднем проходе были кандиломы — сифилитические разращения, пресловутая «капуста». С прииска в больницу он был направлен с диагнозом «проляпсус ректи» — то есть «выпадение прямой кишки». Таким вещам в больнице давно не удивлялись — одного выброшенного на ходу из машины стукача, получившего множественный перелом бедра и голени, местный фельдшер направил с диагнозом «проляпсус из машины». Слесарь Харджиев был очень хороший слесарь, нужный больнице человек. Удобно, что у него был сифилис, — целый курс ему провели, пока он работал на сборке парового отопления совершенно бесплатно, числясь на больничной койке.
В следственной тюрьме, в Бутырках, о женщинах почти не говорили. Там каждый стремился представить себя хорошим семьянином — а может, так это и было, да и некоторые жены, не партийные, ходили на свидания и носили денежные передачи, доказывая правоту оценок Герцена, данных им в томе первом «Былого и дум» о женщинах русского общества после 14 декабря.
К любви ли относится растление блатарем суки-собаки, с которой блатарь жил на глазах всего лагеря, как с женой. И развращенная сучонка виляла хвостом и вела себя с любым человеком, как проститутка. За это почему-то не судили, хотя ведь в уголовном кодексе есть статья о «скотоложестве». Но мало ли кого и за что в лагере не судили. Не судили доктора Пенелопова, старика педераста, женой которого был фельдшер Володарский.
Относится ли к теме судьба невысокой женщины, никогда не бывшей в заключении, приехавшей сюда с мужем и двумя детьми несколько лет назад. Муж ее был убит — он был десятником и ночью в темноте на льду наткнулся на железный скрепер, который тащила лебедка, и скрепер ударил ее мужа в лицо, и еще живым его привезли в больницу. Удар пришелся прямо поперек лица. Все кости лица и черепной коробки ниже лба были смещены назад, но он был еще жив, жил несколько дней. Жена осталась с двумя маленькими детьми, четырех и шести лет, мальчиком и девочкой. Она скоро вышла замуж снова за лесничего и жила с ним три года в тайге, не показывалась в большие поселки. Она родила еще двух детей за три года — девочку и мальчика и принимала роды у себя сама, муж дрожащими руками подавал ей ножницы, она сама перевязывала и обрезала собственную пуповину и смазывала йодом конец пуповины. С четырьмя детьми она пробыла в тайге еще год, муж простудил ухо, в больницу не поехал, началось гнойное воспаление среднего уха, затем воспаление пошло еще глубже, поднялась температура, и он приехал в больницу. Ему срочно была сделана операция, но было уже поздно — он умер. Она вернулась в лес, не плача — чему помогут слезы?
Имеет ли отношение к теме ужас Игоря Васильевича Глебова, который забыл имя и отчество своей собственной жены? Мороз был большой, звезды — высокими и яркими. Ночью конвоиры бывают более людьми — днем они боятся начальства. Ночью нас отпускали погреться к бойлеру по очереди, бойлер — это котел, где вода нагревается паром. От котла идут трубы с горячей водой в забои, и там бурильщики с помощью пара бурят отверстия в породе — бурки, и взрывники взрывают грунт. Бойлер в дощатой избушке-шалаше, и там — тепло, когда топится бойлер. Бойлерист — самая завидная должность на прииске, мечта всех. На эту работу берут и людей пятьдесят восьмой статьи. Бойлеристами в 1938 году были на всех приисках инженеры, блатарям начальство не особенно любило доверять такую «технику», боясь картежной игры или чего-нибудь еще.
Но Игорь Васильевич Глебов не был бойлеристом. Он был забойщик из нашей бригады, а до тридцать седьмого года был профессором философии в Ленинградском университете. Это мороз, холод, голод заставили его забыть имя жены. На морозе нельзя думать. Нельзя ни о чем думать — мороз лишает мыслей. Поэтому лагеря устраивают на севере.
Игорь Васильевич Глебов стоял у бойлера и, завернув руками телогрейку и рубашку вверх, грел голый свой замерзший живот о бойлер. Грел и плакал, и слезы не застывали на ресницах, на щеках, как у каждого из нас, — в бойлере было тепло. Через две недели Глебов разбудил меня ночью в бараке сияющий. Он вспомнил: Анна Васильевна. И я не ругал его и постарался заснуть снова. Глебов умер весной тридцать восьмого года — он был слишком крупен, велик для лагерного пайка.
Медведи казались мне настоящими только в зоологическом саду. В Колымской тайге и еще раньше в тайге Северного Урала я несколько раз встречался с медведями, всякий раз днем, и всякий раз они казались мне игрушечными медведями. И той весной, когда везде была прошлогодняя трава, и ни одна ярко-зеленая травинка еще не распрямлялась, и ярко-зеленым был только стланик, и еще коричневые лиственницы с изумрудными когтями, и запах хвои — только молодая лиственница да цветущий шиповник на Колыме и пахнут.
Медведь пробежал мимо избы, где жили наши бойцы, наша охрана — Измайлов, Кочетов и еще третий, фамилию которого я не помню. Этот третий в прошлом году часто приходил в барак, где жили заключенные, и брал у нашего бригадира шапку и телогрейку — он ездил на «трассу» продавать бруснику стаканами или «чохом», а в форменной фуражке ему было неловко. Бойцы были смирные, понимали, что вести себя в лесу надо иначе, чем в поселке. Бойцы не грубили, никого не заставляли работать. Измайлов был старшим. Когда ему нужно было уходить, он прятал тяжелую винтовку под пол, вывертывая топором и сдвигая с места тяжелые лиственничные плахи. Другой, Кочетов, прятать под пол винтовку боялся и все таскал ее с собой. В этот день дома был только Измайлов. Услышав от повара про подошедшего медведя, Измайлов надел сапоги, схватил винтовку и выбежал на улицу в нижнем белье — но медведь уже ушел в тайгу. Измайлов с поваром побежали за ним, но медведя нигде не было видно, болото было топким, и они вернулись в поселок. Поселок стоял на берегу небольшого горного ключа, но другой берег был почти отвесной горой, покрытой невысокими редкими лиственницами и кустами стланика.