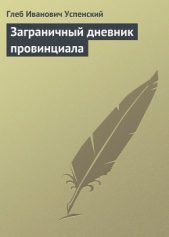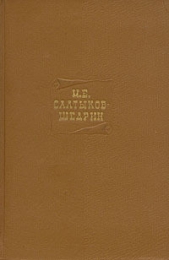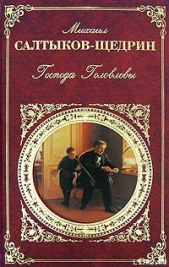Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала
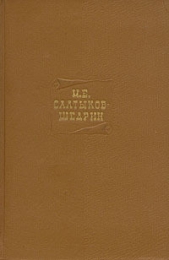
Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В десятый том входит одна из наиболее известных книг Салтыкова — «Господа ташкентцы», которая возникла на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века и, как всегда у этого писателя, была нерасторжимо связана с тогдашней русской действительностью. Также в том входит «Дневник провинциала в Петербурге».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тогда произошел между ними разговор, который неизгладимо напечатлелся в бессмертной душе моей.
— Видел?
— Смотрел-с.
— Однако, брат, ты шельма!
— По нашей части, сударь, без того нельзя-с.
— Вот тебе три серебра!
Прокоп протянул зеленую кредитку; но Гаврило стоял с заложенными за спину руками и не прикасался к подачке.
— Что ж не берешь?
— Как возможно-с!
— Рожна, что ли, тебе нужно? Ну, сказывай!
— А вот как-с. Тысячу рублей деньгами, да из платья, да из белья — это чтобы сейчас. А впоследствии, по смерть мою, чтобы кормить-поить, жалованья десять рублей в месяц… вина ведро-с.
— Да ты очумел?
— Это как вам угодно-с. Угодно — сейчас можно людей скричать-с!
— Стой! мы вот как сделаем. Денег тебе сейчас — сто рублей…
— Никак невозможно-с.
— Да ты слушай! Денег сейчас тебе сто… ну, двести рублей. Да слушай же, братец, не торопись. Денег сейчас тебе… ну, триста рублей. Потом увезу я тебя к себе в деревню и сделаю над всеми моими имениями вроде как обер-мажордомом… понимаешь?
— А какое будет в деревне положение?
— Жалованья — пятнадцать рублей в месяц. Одежда, пища, вино — это само собой.
Гаврило, однако ж, мялся.
— Сумнительно, сударь, — наконец произнес он, — как бы после обиды от вас не было. Многие вот так-то обещают, а после, гляди, свидетелев-то на тот свет угодить норовят. *
Но я уже видел, что колебания Гаврилы не могут быть продолжительны. Действительно, Прокоп набавил всего полтину в месяц — и торг был заключен. Тут же Прокоп вынул из кармана триста рублей, затем вытащил из чемодана две рубашки, все носовые платки, новый сюртук (я только что сделал его у Тедески) и вручил добычу Гаврюшке.
Никогда я так ясно не ощущал, что душа моя бессмертна, и в то же время никогда с такою определенностью не сознавал, до какой степени может быть беспомощною, бессильною моя бессмертная душа!
Я мог реять в эмпиреях, мог с быстротой молнии перелетать через громаднейшие пространства, мог все видеть, все слышать, мог страдать и негодовать, но не мог одного: не мог воспрепятствовать грабежу моих наследственных и благоприобретенных капиталов.
Через час в моем номере уже ходили взад и вперед какие-то неизвестные личности (из них только одна была мне знакома — это поручик Хватов), которые описывали, опечатывали, составляли протоколы, одним словом, принимали так называемые охранительные меры. И никто из них не удивился, что в моей шкатулке оказалось всего-навсего две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги да старинная копеечка *, которою когда-то благословила дедушку Матвея Иваныча какая-то нищенка. Никому не показалось странным, что у меня нет ни одного носового платка. Никому не пришло в голову поинтересоваться, отчего у Прокопа так безобразно оттопырились карманы пиджака. Пришли, понюхали — и ушли *. Один Хватов на мгновение как бы удивился.
— Скажите на милость! — воскликнул он, обращаясь к Прокопу, — я ведь, признаться, воображал, что они миллионщики! *
— Ну да, держи карман — миллионщики! В прежнее время — это точно: и из помещиков миллионщики бывали! а с тех пор как прошла над нами эта сипация * — всем нам одна цена: грош! Конечно, вот кабы дали на концессии разжиться — ну тогда слова нет; да и тут подлец Мерзавский надул!
— Сс…
— Уж так были бедны! так бедны! — лгал, в свою очередь, и Гаврюшка, — как только дотянули! Третьего дня подходят, это, ко мне: Гаврилушка, говорят, дай на два дня три целковых!
Издержки по погребению моего тела принял Прокоп на свой счет и, надо отдать ему справедливость, устроил похороны очень прилично. Прекраснейшие дроги, шесть попов, хор певчих и целый взвод факельщиков, а сзади громаднейший кортеж, в котором приняли участие все находящиеся в Петербурге налицо кадыки. На могиле моей один из кадыков начал говорить, что душа бессмертна, но зарыдал и не кончил. Видя это, отец протоиерей поспешил на выручку.
— Достославный болярин! — произнес он, обращаясь к моему гробу, — не будем много глаголати, но скажем кратко. Что означает сие торжество? сие торжество прискорбное, ибо оно означает, что душа твоя оставила нас, друзей и присных твоих! но сие торжество и радостное, ибо отколе бежала душа твоя и куда воспарила! Она бежала от прогорькия сей юдоли и воспарила в высоты! Днесь вкушает она от трапезы благоуготованной и благоучрежденной! Вкушай же, душе! вкушай пищу благопотребную, вкушай вечно! Мы же, воспоминая о тебе, друже наш, да не постыдимся!
Эти слова были сигналом к отъезду кортежа в ближайшую кухмистерскую, где Прокоп заказал погребальный обед. Ели: щи, приготовленные кухаркой Карнеевой, московских поросят с кашей, осетрину по-русски, жареную телятину и ледник (мороженое). И я имел удовольствие видеть, как во щи капали Прокоповы слезы и нимало не портили их.
По-настоящему на этом месте мне следовало проснуться. Умер, ограблен, погребен — чего ждать еще более? Но после продолжительного пьянственного бдения организм мой требовал не менее же продолжительного освежения сном, а потому сновидения следовали за сновидениями, не прерываясь. И при этом с замечательным упорством продолжали разработывать раз начатую тему ограбления.
Душа моя не могла долее выдерживать зрелища Прокоповой безнаказанности и воспарила. А однажды воспаривши, мой дух совершенно естественно очутился в господской усадьбе при деревне Проплёванной.
На этот раз, впрочем, сонная фантазия не представила мне никаких преувеличений. Перед умственным взором моим действительно стояла моя собственная усадьба, с потемневшими от дождя стенами, с составленными из кусочков стекла окнами, с проржавевшею крышей, с завалившеюся оранжереей, с занесенными снегом в саду дорожками, одним словом, со всеми признаками несомненной опальности, в которую ввергла ее так называемая «катастрофа».
Зимний вечер близится к концу; в окнах усадьбы там и сям мелькает свет. Я незримо пробираюсь в дом и застаю моих присных в гостиной. Тут и сестрица Машенька, и сестрица Дашенька, и племянницы Фофочка и Лёлечка. Они сидят с работой в руках и при трепетном свете сальной свечи рассуждают, что было бы, кабы, да как бы оно сделалось, если бы…
При жизни сестрицы меня ненавидели и в то же время любили. Как было им не ненавидеть меня! Я был богат, они — бедны! И чем быстрее я обогащался, тем быстрее росла моя холодность к ним. Сколько раз они умоляли меня (разумеется, каждая с глазу на глаз и по секрету от другой) дозволить им «походить» за мной, а ежели не им, то вот хоть Фофочке или Лёлечке. И я всякий раз с беспримерною в семейных летописях черствостью отказывался. Мало того: я не просто отказывался, но и язвил при этом. Еще недавно, перед самым отъездом моим в последний раз в Петербург, Дарья Ивановна, несмотря на распутицу, прискакала ко мне из Ветлуги и уговаривала довериться ей.
— Не ровён час, братец, — говорила она, — и занеможется вам, и другое что случится — все лучше, как родной человек подле! Принять, подать…
— Вот, сестра Марья тоже просится…
Я сказал это нарочно, ибо знал, что одно упоминовение имени сестрицы Машеньки выведет сестрицу Дашеньку из себя. И действительно, Дарья Ивановна немедленно понеслась на всех парусах. Уж лучше первого встречного наемника, чем Марью Ивановну. Разбойник с большой дороги — и у того сердце мягче, добрее, нежели у Марьи Ивановны. Марья Ивановна! да разве не ясно, как дважды два — четыре, что она способна насыпать яду, задушить подушками, зарубить топором!
— Разве примеры-то эти, братец, не бывали?!