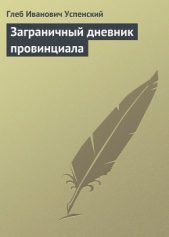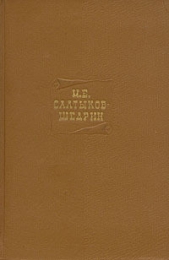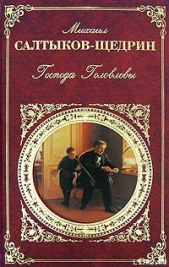Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала
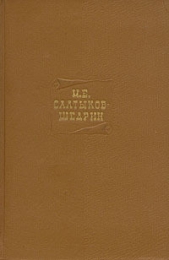
Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В десятый том входит одна из наиболее известных книг Салтыкова — «Господа ташкентцы», которая возникла на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века и, как всегда у этого писателя, была нерасторжимо связана с тогдашней русской действительностью. Также в том входит «Дневник провинциала в Петербурге».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вот этого видите, вон того, черноволосого, что перед обедом так усердно богу молился, — он у своего собственного сына материнское имение оттягал! — скажет сосед с правой руки.
— Вот этого видите, вон того, что салфеткой брюхо себе застелил, — он родной тетке конфект из Москвы привез, а она, поевши их, через два часа богу душу отдала! — шепчет сосед с левой руки.
— А вон того видите — вон, что рот-то разинул, — он, батюшка, перед самою эмансипацией всем мужикам вольные дал, да всех их к купцу на фабрику и закабалил *. Сколько деньжищ от купца получил, да мужицкие дома продал, да скотину, а земля-то вся при нем осталась… Вот ты и смотри, что он рот разевает, а он операцию-то эту в лучшем виде устроил! — снова нашептывает сосед с правой руки.
И вдруг — о, удивление! — человек, застилавший брюхо салфеткой, шлет моему левому соседу стакан шампанского. Разумеется, обмен мыслей.
— Ивану Николаевичу! каково поживаете? каково прижимаете!
— Вы как!
— Вашими молитвами. После обеда пульку составить надо.
— Не вредно.
И действительно, тотчас же после обеда брюхан и мой левый сосед сидят уже за ералашем и дружелюбнейшим образом козыряют до глубокой ночи. И кто же знает? если за брюханом есть конфета, то не считается ли за моим левым соседом целого пирога?
Каким образом создалась эта круговая порука снисходительности — я объяснить не берусь, но что порука эта была некогда очень крепка — это подтвердит каждый провинциал. Однажды я был свидетелем оригинальнейшей сцены, в которой роль героя играл Прокоп. Он обличал (вовсе не думая, впрочем, ни о каких обличениях) друга своего, Анемподиста Пыркова, в присвоении не принадлежащего ему имущества.
— Ну, брат, уж нечего тут очки-то вставлять! — ораторствовал Прокоп, — уж всякому ведь известно, как ты дядю-то мертвого под постель спрятал, а на место его другого в колпаке под одеяло положил! Чтобы свидетели, значит, под завещанием подписались, что покойник, дескать, в здравом уме и твердой памяти… Штукарь ведь ты!
— Me… «финиссѐ…» [432] — умолял Пырков, простирая руки.
— Нечего «финиссе́»… или уж по-французски заговорил! Уж что было, то было… Вон он и на кровати-то за покойника лежал! — вдруг указал Прокоп на добродушнейшего старичка, который, проходя мимо и увидев, что собралась порядочная кучка беседующих, остановился и с наивнейшим видом прислушивался к разговору.
— Пожалуйста, финиссѐ… прошу! — продолжал умолять Пырков.
— Чего финиссѐ! Вот выпить с тобой — я готов, да и то чтоб бутылка за семью печатями была! * А других делов иметь не согласен! Потому, ты сейчас: либо конфект от Эйнема подаришь, либо пирогом с начинкой угостишь! Уж это верно!
И что ж? через какие-нибудь полчаса и Прокоп и Пырков сидели за одним столом и дружелюбнейшим образом чокались, что, впрочем, не мешало Прокопу, от времени до времени, язвить:
— А уж что ты тогда покойника под постель спрятал — это, брат, верно!
В другой раз, за обедом у одного из почетнейших лиц города, я услышал от соседа следующий наивный рассказ о двоеженстве нашего амфитриона.
— Служили они, знаете, в Польше-с… ну, молоды-с… полечки там, паненочки… сейчас руку и сердце-с. Вот только, женившись, и спохватились они, что дурно это сделали. Приданого за паненочкой — обтрепанный хвост-с, а родители у них престрогие-с. Вот и говорят они своей коханой-с: я, говорит, душенька, к старикам съезжу, а ты, говорит, после приедешь, как я подготовлю их. Сказано — сделано-с. Приезжают это в наши палестины, а тем временем родители-то уж вдову для них приготовили. Двенадцать тысяч душ-с. Задумались-с. Однако, как увидели, что от ихней теперича решительности все будущее счастие в зависимости состоит, довольно-таки твердо выговорили: согласен-с. А потом, не говоря худого слова, веселым пирком да за свадебку-с. Пошли тут пиры да банкеты; они было в Варшаву, для устройства служебных дел, — куда тебе! Наша вдовушка так во вкус вошла, что и слышать ничего не хочет-с! Только проходит три месяца, четыре-с, получают наш Петр Иваныч из Варшавы письмо за письмом-с! А, наконец, и решительное-с. «Не знаю, говорит, что̀ и подумать, коханый мой Петрусь (это она по-польски его Петрусем называла), я же без тебя не могу жить, а потому и выезжаю завтрашнего числа к тебе». Ну-с, и в другое время неприятно, знаете, этакую конфету получить, а у них, кроме того, еще бал на другой день в подгородном имении на всю губернию назначен-с. Вот и открылись они Кузьме Тихонычу — вон они, с большими-то усами, по правую руку от них сидят, — так и так, говорят, устрой! И что̀ же-с! на другой день идет это бал, кадрели, вальсы, все как следует, — вдруг входит Кузьма Тихоныч, подходит к хозяину и только, знаете, шепнул на ушко: аллё! И представьте себе, никто даже не заметил, как они с Кузьмой Тихонычем в Незнамовку съездили (почтовая станция так называется, верстах в четырех от их имения), как там свое дело сделали и обратно оттуда приехали. И такой это приятный бал был, что долгое время вся губерния о нем говорила! А паненочки с тех пор и след простыл. Сказывали, будто в Незнамовке стакан воды выпила-с. Так вот, сударь, какие в старину люди-то живали! Этакое, можно сказать, особливой важности дело сделалось, а они хоть бы вид подали!
. . . . . . . . . .
Таким образом, реальность моих сновидений не может подлежать сомнению. Если я сам лично и никого не обокрал, а тем менее лишил жизни, то, во всяком случае, имею полное основание сказать: я там был, мед-пиво пил, по усам текло… а черт его знает, может быть, и в рот попало!
Итак, продолжаю.
Я умер, но так как смерть моя произошла только во сне, то само собою разумеется, что я мог продолжать видеть и все то, что случилось после смерти моей.
Прокоп мигом очистил мою шкатулку. Там было пропасть всякого рода ценных бумаг на предъявителя, но он оставил только две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги, да и то лишь для того, чтобы не могли сказать, что дворянина одной с ним губернии (очень он на этот счет щекотлив!) не на что было похоронить. Все остальное запихал он в свои карманы и даже за голенищи сапогов.
Потом Прокоп посетил мой чемодан, и так как нельзя было взять вещей очень громоздких, то украл (кажется, я вправе употребить это выражение?) два батистовых носовых платка. Затем он вскрыл мой дорожный несессер и украл оттуда чайную серебряную ложку.
Исполнивши все это, Прокоп остановился посреди комнаты и некоторое время осовелыми глазами озирался кругом, как бы нечто обдумывая. Но я — я совершенно ясно видел, что у него в голове уже зреет защитительная речь. «Я не украл, — говорил он себе, — я только устранил билеты из места их прежнего нахождения!» Очевидно, он уже заразился петербургским воздухом; он воровал без провинциальной непосредственности, а рассчитывая наперед, какие могут быть у него шансы для оправдания.
Затем он отер украденным платком лицо, позвал номерного… и заплакал!!
Это были до такой степени настоящие слезы, что мне сделалось жутко. Видя, как они текут по его лоснящимся щекам, я чувствовал, что умираю все больше и больше. Казалось, я погружаюсь в какую-то бездонную тьму, в которой не может быть речи ни об улике, ни об отмщении. Здесь не было достаточной устойчивости даже для того, чтобы задержать след какого бы то ни было действия. Забвение — и далее ничего…
Но я ошибался. Мой мститель или, лучше сказать, мститель моих законных наследников был налицо.
То был номерной Гаврило. Очевидно, он наблюдал в какую-нибудь щель и имел настолько верное понятие насчет ценности Прокоповых слез, что, когда Прокоп, всхлипывая и указывая на мое бездыханное тело, сказал: «Вот, брат Гаврилушко (прежде он никогда не называл его иначе, как Гаврюшкой), единственный друг был на земле — и тот помер!» — то Гаврило до такой степени иронически взглянул на него, что Прокоп сразу все понял.