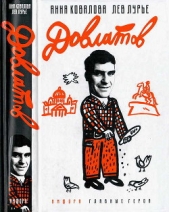Дар органического беззлобия (Интервью Виктору Ерофееву)

Дар органического беззлобия (Интервью Виктору Ерофееву) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сергей Довлатов
Дар органического беззлобия
Интервью Виктору Ерофееву
В. Ерофеев: Расскажите немного о себе. Где вы жили до отъезда?
С. Довлатов: Я родился в эвакуации, в Уфе. С 1945 года жил в Ленинграде, считаю себя ленинградцем. Три года жил в Таллинне, работал в эстонской партийной газете. Потом меня оттуда выдворили: не было эстонской прописки. Вообще-то мать у меня армянка, отец еврей. Когда я родился, они решили, что жизнь моя будет более безоблачной, если я стану армянином, и я был записан в метрике как армянин. А затем, когда пришло время уезжать, выяснилось, что для этого необходимо быть евреем. Став евреем в августе 1978 года, я получил формальную возможность уехать.
- А вот сейчас, в связи с событиями в Армении, ваша армянская кровь как-то дает о себе знать?
- Я знаю, что это кому-то кажется страшным позором, но у меня никогда не было ощущения, что я принадлежу к какой-то национальности. Я не говорю по-армянски. С другой стороны, по-еврейски я тоже не говорю, в еврейской среде не чувствую себя своим, И до последнего времени на беды армян смотрел как на беды в жизни любого другого народа - индийского, китайского... Но вот недавно на одной литературной конференции познакомился с Грантом Матевосяном. Он на меня совсем не похож - он настоящий армянин, с ума сходит от того, что делается у него на родине. Он такой застенчивый, искренний, добрый, абсолютно ангелоподобный человек, что, подружившись с ним, я стал смотреть как бы его глазами. Когда я читаю об армянских событиях, я представляю себе, что сейчас испытывает Матевосян. Вот так, через любовь к нему, у меня появились какие-то армянские чувства.
- Значит, вы себя чувствуете как бы абстрактно-русским?
- Я долго думал, как можно сформулировать мою национальную принадлежность, и решил, что я русский по профессии.
- А что это значит - русский по профессии?
- Ну, я пишу по-русски. Моя профессия - быть русским автором.
- Русский автор - значит, подразумевается и русская культура, русские писатели, за вами стоящие?
- С одной стороны, за мной ничего не стоит. Я представляю только себя самого всю свою жизнь и никогда, ни в какой организации, ни в каком содружестве не был. С другой стороны, за мной, как за каждым из нас, кто более или менее серьезно относится к своим занятиям, стоит русская культура. Отношение к которой очень меняется. Когда я жил в Ленинграде, я читал либо "тамиздат", либо переводных авторов. И когда в каком-то американском романе было описано, как герой зашел в бар, бросил на цинковую стойку полдоллара и заказал двойной мартини, это казалось таким настоящим, подлинным... прямо Шекспир!
- Большая литература...
- Да. И только в Америке выяснилось, что меня больше интересует русская литература...
- Когда вы жили в России, вам удавалось что-то писать, кроме чисто журналистских работ?
- Еще как! Журналистом я стал случайно. А потом, потеряв честь и совесть, написал две халтурные повести о рабочем классе. Одну сократили до рассказа и напечатали в журнале "Нева" то ли в 1967-м, то ли в 1969-м. Она называлась "Завтра будет обычный день" - ужасная пролетарская повесть... А вторую я сочинил по заказу журнала "Юность". Эта повесть - "Интервью" безусловно, ничтожное произведение. Есть люди, у которых разница между халтурой и личным творчеством не так заметна. А у меня, видимо, какие-то другие разделы мозга этим заняты. Если я делаю что-то заказное, пишу не от души, то это очевидно плохо. В результате - неуклюжая, глупая публикация, которая ничего тебе не дает ни денег, ни славы.
- Это было в начале 70-х годов. Потом, через несколько лет, вы уехали. А до того вы что делали - писали в стол?
- Это называется "писать в стол", хотя я старался, чтобы читали мои знакомые, Я писал, ходил по редакциям, всех знал и даже среди непечатающейся ленинградской молодежи считался сравнительно удачливым. Я помню, как один менее преуспевающий автор, мой приятель говорил: "Ну что тебе жаловаться? С тобой даже в "Авроре" здороваются!"
- Каков был ленинградский писательский круг в то время?
- Это было странное поколение. Я бы не сказал - незамеченное, а какое-то не очень яркое. После того как отшумело поколение - Битов, Марамзин, Сергей Вольф, и замкнул его Валерий Попов, который старше меня всего на год, появился я. И некоторое время в этой среде было принято говорить, хотя это и нескромно звучит: "После Сережи уже никто не появился". Это не так. Среди моих сверстников и знакомых были очень способные люди. Просто дальше шло поколение душевно нестойких, с какими-то ментальными проблемами... И наше поколение не произвело никакого эффекта в отличие от предыдущего.
- Значит, у вас как у писателя жизнь сложилась не лучшим образом?
- Это была какая- то невероятная смесь везения и невезения. С одной стороны, казалось бы, полное невезение - меня не печатали. Я не мог зарабатывать литературным трудом. Я стал психом, стал очень пьющим, Меня окружали такие же спившиеся непризнанные гении. С другой стороны, куда бы я ни приносил свои рассказы, я всю свою жизнь слышал только комплименты. Никогда никто не выразил сомнения в моем праве заниматься литературным трудом.
- И тогда возникло желание бежать?
- Не то что желание - просто со всех сторон сошлись обстоятельства, из которых в результате стало ясно, что перспективы никакой нет. Печатать не будут, зарабатывать трудно, жена настроена скептически по отношению к властям. Дело в том, что в нашей семье не я был инициатором отъезда... Затем, как ни странно, моя дочь, которой в то время было 11 лет, тоже считала, что надо ехать - может, это было естественное желание видеть мир. Моя мать сразу сказала - как вы, так и я.
У меня года за полтора до отъезда начались публикации на Западе, и это усугубляло мое положение. Выгнали из одного места, из другого, потом я охранял какую-то баржу на Неве, вмерзшую в лед.
Она не представляла вообще никакой ценности, кажется, с нее уже все было украдено, что можно было украсть. Но круглосуточно три человека - двое остальных были с высшим образованием - ее охраняли. Короче говоря, началась невозможная жизнь. Представьте себе - в Ленинграде ходит такой огромный толстый дядя, пьющий. Печатается в "Континенте", в журнале "Время и мы". Участвует в литературной жизни, знаком с Бродским. Шумно везде хохочет, говорит какие-то глупости, ведет вздорные антисоветские разговоры и настоятельно всем советует следовать его примеру. И если существовал какой-то отдел госбезопасности, который занимался такими людьми, то им стало очевидно; надо либо сажать, либо высылать. Они же не обязаны были знать, что я человек слабый, и стойкий диссидент из меня вряд ли получится...