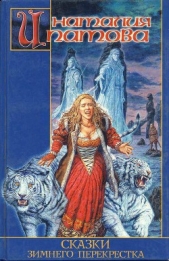Остановиться, оглянуться

Остановиться, оглянуться читать книгу онлайн
Главный герой романа Л. Жуховицкого — тридцатилетний журналист Георгий Неспанов. Гошка, «король фельетона», как называют его друзья, — прирожденный газетчик. Он может топать пешком по осеннему бездорожью и спать где попало, — лишь бы разоблачить мерзавца и шкурника, лишь бы помочь честному человеку. Счастливый своей работой и удачами, Неспанов начинает верить в безошибочность собственной интуиции, непогрешимость и справедливость своей самописки…
Но жизнь многогранна, сложна, полна неожиданностей, и, вмешиваясь в нее, необходимо не однажды остановиться и оглянуться, проверить каждый свой шаг в чужую судьбу… «Король фельетона», посредник и третейский судья в неизбежных жизненных конфликтах, совершает ошибку и оказывается виновным перед собственной совестью в смерти единственного друга Юрки. О том, как произошла эта трагедия, об огромной ответственности, которая лежит на плечах журналистов, и рассказывает автор в своем романе, густо населенном людьми разных профессий и характеров.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я не думал, что она возразит, — что можно возразить на такую тираду? Но хоть обиделась бы!
Нет, не обиделась — все так же шла рядом со мной, только румянец стал гуще да взгляд мрачней.
— А расплатишься ты паршиво, — сказал я. — Ты достанешься подонку. Не выберешь, а именно достанешься.
Она глухо возразила:
— Но ведь это зависит от меня.
Я невесело покачал головой:
— Что от тебя зависит! Ты ведь заранее знаешь, кто тебе нужен. Ходишь с меркой и прикладываешь, А настоящий человек может быть только самим собой… Вот подонок — он примет любую форму. Чего изволите.
Мы перешли улицу. Машин вокруг было до черта, но я даже не взял ее за локоть. После того эпизода у окна мне не хотелось до нее дотрагиваться.
Мы вышли на тротуар. Она молчала.
Я сказал:
— Это еще не самое плохое. Хуже всего, что он на тебе женится. Самые удобные жены выходят из идеальных дев — а подлецы в этом знают толк. Так что готовься. Будешь жить с подлецом, штопать ему носки и рожать детей, которые пойдут в отца.
Не поднимая головы, она спросила:
— Ты действительно так думаешь?
Я ответил:
— Вариант не единственный, пожалуй, но самый вероятный.
Станцию метро мы тоже прошли. Но я успокоил себя тем, что надо же когда–нибудь кончить этот разговор. Мы шагали довольно быстро, и я ее спросил:
— Ты не устала?
Она мотнула головой:
— Нет…
Потом мрачно спросила:
— Значит, все должны расплатиться?
— Наверное.
— А ты?
Я пожал плечами:
— О себе говорить трудно.
«А в самом деле, — подумал я, — мне–то за что предстоит расплачиваться. Тоже ведь, наверное, есть за что…»
Но вспоминать свои грехи я не стал, потому что не было ощущения греховности. Вот уже года три я делал все, что считал правильным. Я писал то, что хотел, так, как хотел, и никогда не пытался выдать дерьмо за мрамор. Наверное, можно было сделать больше и лучше — но вот что?
Я вспомнил самый неудачный свой материал за последний год — тот злосчастный репортаж с канала. За него мне было стыдно до сих пор. Но ведь никто не работает постоянно на предельных нагрузках…
Я понял, что критикую себя, как опытный подхалим уважаемого товарища начальника, и прекратил это мысленное фарисейство. Если есть, за что расплачиваться, — когда–нибудь расплачусь.
Вот за девчонок с первого взгляда, за веселые и легкие приключения молодости — за это расплачусь, тут уж никуда не денешься. Хотя бы тем, что, когда Д. Петров будет со своим сыном гулять на лыжах в Крылатском, мой еще будет пачкать пеленки и бессмысленно таращить круглые глаза…
Светлана спросила:
— А во сколько люди начинают расплачиваться?
— Бог его знает, кто как. Пожалуй, лет в тридцать. В общем, кому как повезет.
Она сказала:
— Но ведь тебе уже тридцать лет.
Я ответил, потому что действительно так думал и потому, что мне хотелось ее подразнить:
— Для себя я хочу легкой судьбы: отдать все, что умею, взять все, что хочу, и расплатиться за это смертью лет в восемьдесят.
На это она ничего не возразила и вообще ничего больше не спрашивала, пока мы не дошли до остановки автобуса, идущего на Сетунь.
Я сказал:
— Ну, вот и все. Теперь я поеду, а ты ступай в институт.
Она тихо сказала:
— Все равно я уже опоздала.
Мы стояли на остановке друг против друга, и какая–то любопытная старушенция замедленно шла мимо, держа равнение на нас. Я подождал, пока бабка выйдет из пределов слышимости, и резко сказал Светлане:
— Ты хоть понимаешь, что парня лучше, чем Сашка, ты никогда в жизни не встретишь?
Она долго молчала. Потом ответила:
— Понимаю.
Она проговорила это негромко, не поднимая глаз и все–таки с каким–то не совсем ясным мне вызовом.
Я сказал:
— Ну что ж, думай сама. Ты взрослая.
Подошел наконец автобус, и я поехал в Кунцево разбираться в коридорной склоке — налаживать мирное сосуществование в квартире, где на семь хозяев двадцать четыре замка…
Вечером в больнице я встретил Сашку и сказал, что со Светланой поговорил.
Он глухо спросил, не глядя на меня:
— Ну, и что?
Я сдержанно ответил:
— Думаю, все будет в порядке. Вряд ли эта блажь надолго… Светлану я больше не встречал — ни в корпусе, ни на скамейке перед ним.
Правда, дня через четыре я увидел у Юрки на тумбочке апельсины. И действительно, Юрка сказал, что Светлана заходила. Но подробности я выспрашивать не стал. Зато о Юркиных делах расспросил подробно и про себя подсчитал, что сегодня его кололи пять раз. Днем в него вливали чужую кровь, утром брали его собственную, а еще три раза манипулировали шприцем во имя чудодейственного препарата Егорова… В этом было что–то унизительное: все равно что обратиться за помощью к знахарю или к богу. Мне кажется, это чувствовали все: и шеф, и Сашка, и даже сестры, коловшие Юрку. Только сам он со своим обычным нудным фанатизмом относился к дозам, анализам и термометрам. Верил? Вряд ли, он парень умный. Просто чувствовал себя при деле.
Но в этой бесперспективной суете белых халатов вокруг Юрки была все же своя магия. Краем она задела и меня.
Когда у Юрки брали кровь на анализ, я с трудом удерживался, чтобы тут же не броситься вниз, в лабораторию, к тихим девочкам, забранным в белое полотно. Смешно — я не верил больше ни в какие лекарства, ни в каких профессоров, но все еще надеялся на тихих девочек из лаборатории, все ждал той самой счастливой неожиданности, когда врачи недоуменно разводят руками, а родственники со счастливой улыбкой кричат в телефон: «Вы знаете — как рукой сняло! И никто не знает почему…»
Зелененькие листки с анализом крови приходили каждый день, таблица лейкоцитов была как шкала барометра И стрелка все время валилась вправо — на бурю, на беду.
Иногда стрелка чуть подрагивала, и вдруг сегодня анализ получался лучше, чем вчера. Но это еще не давало повода для радости — я уже знал, что тихие девочки из лаборатории отнюдь не боги и что не так–то легко сосчитать в микроскоп обманчиво схожие кровяные тельца.
Случился как–то день, когда стрелка резко пошла влево, еще далеко не к норме, но резко влево, и жалко было выпускать из рук добрый на этот раз зеленый листок — радостное письмо из полуподвальной страны Лаборатории.
Но уже на следующее утро анализ был обычный и не обещал ничего, кроме бури…
Из людей вокруг самым большим оптимистом была Рита, и с ней особенно тяжело было говорить. Я просто поражался, до чего она восприимчива к любой вере! Верить во что угодно — лишь бы не думать, не решать, не глядеть в равнодушные глаза жизни.
То, что происходило в эти дни, в ее представлении выглядело примерно так: «Юре достали новое лекарство, на которое все очень надеются». Сама она, во всяком случае, надеялась…
Мы с Сашкой пытались хоть что–нибудь сделать для Юрки, тупея от сознания, что все бесполезно, что уходят последние дни. А в ее представлении Юркина жизнь находилась в надежных руках всезнающей медицины и всемогущей печати, и значит, ничего плохого просто случиться не могло.
Но плохое все–таки случилось. Постепенно и незаметно — но пришло.
Это поняли все — и тихие девочки из лаборатории, и Сашка, и палатная сестра, и я, и профессор, завотделением, крупнейший в Союзе специалист, такой же беспомощный, как остальные.
Впрочем, для него Юрка был одним из тысячи, даже не тысячным, а каким–нибудь семьсот девяносто шестым, «одним из…», из тех, кто своей смертью подтвердит правило, пока еще, увы, не знавшее исключений.
Я попал на профессорский обход в тот самый день, когда Юрке перестали колоть препарат Егорова ввиду явной бесполезности. Профессор стоял у Юркиной постели минут пять и, спрашивал его о разных разностях, в том числе о чувстве неловкости в суставах, спрашивал подробно и обстоятельно.
Выйдя из палаты, он дал Сашке несколько указаний. Но даже постороннему ясно было, что указания эти не о том, как помочь, а за чем наблюдать, что медицина Юрке ничего уже дать не может. Теперь мог дать только он ей, не много, но все–таки дать — умереть под наблюдением квалифицированного врача.